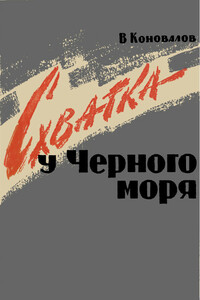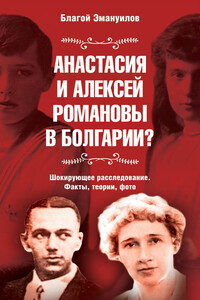М. Б. Ну, мой внутренний голос вещает, что обольщаться особливо не надо… А что ты хотел бы сказать на тему социальных перемен, начавшихся в восьмидесятых и закончившихся расстрелом Белого дома?
Ж. М. Крушение совка меня как-то не расстроило и не порадовало, потому что на самом деле разрушилось не то, против чего бунтовала молодежь. Поначалу была такая иллюзия, но она постепенно улетучивалась; на смену старой простоватой системе контроля пришла более витиеватая система уравнения. Просто неформалы столкнулись с беспрецедентным хаосом дележа советского материального и культурного наследия и были несколько дезориентированы отсутствием противостояния. На самом деле жлобы остались жлобами, гопники – гопниками, а маргиналы – маргиналами. Даже отмена пресловутой системы прописок сменилась на хаос миграций, которые сравнивают с поребриками местные субкультуры. И не мудрено, что люди, которые в подобной ситуации стараются сохранить лицо, остаются за рамками общества. Зарываются в собственных психоделических глюках, либо забываются в алкоголе и наркотиках. Здесь, кстати, можно отметить феномен популярности научной и не очень фантастики в семидесятые и девяностые, потому как описываемая там действительность никак не похожа на происходящее вокруг.
М. Б. То же самое можно сказать про периодические расцветы романтизма в виде дамских романов и недвусмысленный термин «новой романтики» в Европе и Америке восьмидесятых.
Ж. М. Я, если честно, не знаю – у кого-то дома в районе холодильника и кухонной плиты, возможно, и случилась революция, но… Пафос такого термина со стороны официоза здесь просто неуместен, так как вся советская номенклатура осталась у власти, а тысячи трупов в результате бандитского передела вряд ли можно сравнивать с другими революциями, даже 1917 года.
Урелам, которым заявили, что они могут теперь делать все, что они хотят, дали пограбить друг друга, да и обратно в стойло загоняют, причем на менее выгодных условиях. И со стороны андеграунда этот термин смотрится тоже как-то глуповато. Это была попытка построить собственную субкультуру, которая в результате состоялась как жанр и постепенно превращается в «индустрию индивидуальности». Настоящим маргиналам строить индустрию не особенно интересно; им свойственны более человечные формы взаимоотношений, чем неискренние и подневольные. Получая в советские времена искаженную информацию, молодежь переосмысливала ее по-советски и привносила в эти формы свое, местечковое. Получая новый продукт, обреченный на популярность в собственной среде андеграунда. Руками маргиналов создавались культы и объекты этих культов, а урела им поклонялись. После чего маргиналы все это дело бросали и занимались новыми темами. Комсомольские структуры, понятно дело, не могли, даже если бы очень сильно хотели, развивать эти темы. А нынешние полуофициальные структуры, не безвозмездно пытающиеся обслуживать молодежные жанры и субкультуры, стараются подравнять производство под «чтоб все, как у людей» и развиваются уже в рамках готовой моды, поскольку собственных не имеют. А продвинутую и способную молодежь на безвозмездное сотрудничество уже не разведешь.
Но все же на короткий срок в середине восьмидесятых маргиналы, которых бюрократы окрестили неформалами, мало того, что вышли из подчинения системе, но и потянули за собой более-менее вменяемые слои населения. Тогда– то и стало понятно, что есть нечто иное, чем только работа и только семья. На этом революционном порыве и удалось продавить те самые положительные изменения в обществе, касаемые самовыражения и творчества. Когда я был фанатом, у меня был сектор; когда стал металлистом, у меня была тусовка, которую я мог считать своей. И во всех остальных проявлениях я стараюсь искать что-то свое, в переносном смысле этого слова. Конечно же, никто и не рассчитывал, что подобная вольница будет всегда, система все равно будет давить индивидуалов, но чем сильнее будет прессинг со стороны социума, тем чаще будут происходить волнения подобные тем, которые мы пережили за эти последние двадцать лет.