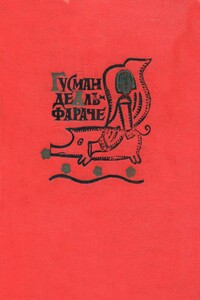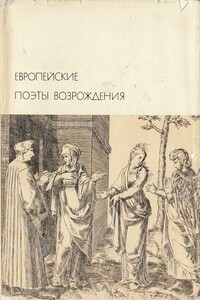Какие только мысли не приходили мне в голову, когда, обманутый и обобранный, я покидал постоялый двор! Как тосковал я по котлам земли египетской[85], — поистине, что имеем — не храним, потерявши — плачем. Мои спутники также погрузились в раздумье. У доброго погонщика после конфуза на постоялом дворе иссякли запасы смеха. Прежде он все забрасывал камешки в мой огород, а теперь у него руки опустились — сам опростоволосился.
И давно бы так. Прежде чем заговорить, подумай, что ты можешь услышать, а прежде чем лезть в драку — что и тебе может попасть. Бросаться навстречу опасности глупо: на оскорбление тебе ответят тем же, на издевку — издевкой, на удар — ударом. Всему есть причина, и если хочешь, чтобы люди тебя уважали, должен сам людей уважать. Помни, что и твою тайну могут разгласить, а на твои слова и дела ответят такими словами и делами, что ни слушать, ни терпеть не станет мочи. Не надейся на свою силу или власть: коли в лицо тебя, быть может, и не попрекнут, зато за спиной опозорят на весь мир. Не наживай врагов там, где любезным обхождением мог бы приобрести себе друзей; всякий враг, даже самый ничтожный, опасен, — из искры разгорается пожар. Людям рассудительным, благородным и достойным подобает хранить сдержанность, обуздывать себя и слушаться голоса разума; тогда никто не посмеет их оскорбить и вовлечь в беду! Ты видел, читатель, каково пришлось одному погонщику?
Теперь он уже не смеялся, а ехал молча, понурив голову от стыда. Добрые каноники читали часы. Я размышлял о своих злоключениях. Так мы ехали, каждый занятый своим делом, как вдруг с нами поравнялись двое стрелков Эрмандады[86], преследовавших какого-то пажа, который украл у своего господина много денег и драгоценностей и, по приметам, записанным у преследователей, видимо, был моим двойником.
Увидев меня, стрелки завопили:
— Вор, вор, держи вора! Ага, попался, голубчик, теперь не уйдешь!
Под градом ударов мне пришлось сойти с братца-ослика; тут же меня схватили и стали обыскивать весь обоз в надежде найти украденные вещи. Поснимали вьючные седла, ощупали и те, на которых мы сидели, не пропустили ни одной складочки, все осмотрели.
— Эй, ворюга, — кричали они мне, — признавайся, отдавай украденное, не то угодишь на виселицу!
Пробовал я оправдываться, да где там — и слушать не желают, будто я в самом деле злодей. Они осыпали меня ударами, тумаками, пинками, тормошили, не давая передохнуть, а главное — слово сказать в свою защиту. Хоть и горько мне было, но в душе я ликовал, потому что погонщику, как моему укрывателю, досталось вдвое против моего.
Заметил ли ты сию извращенность человеческого нрава? Ежели люди видят, что враг страдает больше, чем они, собственные страдания им уже нипочем. Я был зол на погонщика — ведь по его милости я лишился плаща и поужинал кониной, — оттого я легче переносил свою беду, глядя на чужую. А колотили его без всякой жалости, требуя, чтобы признался, где спрятал или кому передал краденое. Бедняга, как и я, ни сном ни духом не был повинен в этом деле. Он совсем растерялся. Сперва подумал, что это шутка, но когда стрелки принялись за него как следует, он, как говорится, послал к черту и покойника и плакальщиков. Теперь он и меня не желал ни слушать, ни признавать.
Стрелки ощупали, осмотрели и вывернули наизнанку наше платье; хоть украденные вещи не объявлялись, они продолжали свирепствовать и, как полномочные стражи закона, оскорбляли нас и словом и делом; а может, так им было наказано.
Наконец они устали наносить побои не меньше, чем мы — терпеть; нам связали руки и решили вести обратно в Севилью. Боже тебя сохрани согрешить против трех наших святых — Инквизиции, Крусады[87] и Эрмандады, но, ежели ты невиновен, пуще всего да хранит тебя господь от святой Эрмандады. У тех двух святых судьи справедливые и праведные, ученые и совестливые; низшие же блюстители порядка — люди иного пошиба, а уж слуги святой Эрмандады все снизу доверху народ нечестивый и бездушный; многие из них за грош готовы присягнуть в том, чего ты не делал и чего они не видели, покажи им только мзду за лжесвидетельство, а то и просто кувшин вина. Словом, эти полицейские крючки, или легавые, прямые подручники воров или около того, и, как мы покажем дальше, они-то и есть самые наглые воры в государстве, ибо грабят у всех на виду. Но я уже слышу, как ты, исправный стрелок, говоришь, что я не прав и что ты человек почтенный и служишь честно. Не стану тебе возражать и, будто я с тобой знаком, соглашусь, что ты именно таков. Но признайся, друг, — между нами, чтобы никто нас не слышал, — разве я сказал неправду о твоем товарище? Так оно и есть, ты сам это знаешь. Ну вот, стало быть, о нем-то и речь, а не о тебе.