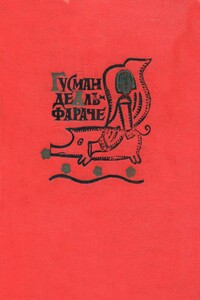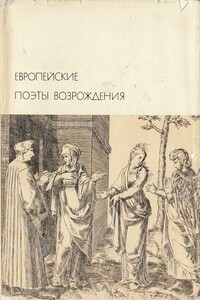Это часто бывает, и так случилось с одним чужеземным кабальеро, которого я знавал в Мадриде. Был он большой охотник до испанских лошадей, и когда решил возвратиться на родину, — а жил он в дальних краях, — то, не имея ни разрешения, ни средств вывезти живых лошадей, задумал взять с собой хотя бы их изображение, чтобы самому любоваться и друзьям показывать. На конюшне у него стояли два отменных жеребца, прекраснейшие во всем Мадриде; вот кабальеро и пригласил двух знаменитых живописцев, дабы те написали каждый по одному коню, и пообещал сверх условленной платы награду тому, кто особенно отличится. Первый живописец с таким совершенством изобразил солового скакуна, что, казалось, коню только души не хватает, а сие уже не во власти художника; конь стоял точно живой и так был похож на настоящего, что иной рассеянный человек, пожалуй, обманулся бы. Кроме коня, на картине ничего не было, только вокруг него живописец нанес светлые и темные пятна, как ему казалось лучше.
Второй художник написал коня серого в яблоках и выполнил свою работу довольно искусно, хотя далеко ему было до товарища. Зато он отличился в другом, в чем весьма был изощрен, а именно: изобразив коня, он расписал верхнюю часть картины волшебными далями, облаками, лучами зари, развалинами и статуями, внизу разместил там и сям рощицы, цветы, луга и скалы, в углу — развешанную на дереве сбрую, а у ног лошади — верховое седло. Все это было так богато изукрашено и отделано, что трудно и вообразить.
Когда кабальеро увидал обе картины, он, понятно, пришел в восторг от первой и присудил награду искусному мастеру, подарив ему сверх договоренной платы дорогой перстень; живописец весьма был рад этому, как и тому, что его картину признали лучшей. Второй живописец, гордившийся своим творением, увидел, с какой щедростью расплатились с первым, и заломил за свою картину неслыханную цену. Кабальеро так и ахнул, услышав названную сумму, которую ему и достать не удалось бы. «Послушай-ка, братец, — сказал он живописцу, — ты бы хоть подумал о том, как дорого стала мне первая картина, а ведь твоя нисколько не лучше!» — «Что до коня, — ответил живописец, — ваша милость правы, но зато в моей картине столько деревьев и всяческих развалин, что они сами по себе стоят не меньше, чем получил мой товарищ».
Кабальеро возразил: «Мне не стать, да и ни к чему, тащить с собой на родину такую кучу деревьев и громоздких строений, — у нас хватает и того и другого, и в моей стране они не менее красивы. К тому же мне нравятся только лошади, и я хочу увезти лишь то, чем не могу любоваться иначе, как на картине».
Тогда живописец сказал: «Если бы на таком большом холсте я написал одного лишь коня, это было бы некрасиво. Чтобы картина имела приятный и нарядный вид, желательно и даже необходимо заполнить ее всякими другими предметами, кои придали бы ей красоту и пышность; вместе с конем вам следует увезти сбрую и седло, а изображены они с таким совершенством, что я их не променяю на сбрую и седло из чистого золота».
Наш кабальеро, заполучив предмет своих желаний и полагая, что сбруя и все прочее, чем была изукрашена — и в своем роде недурно — картина, совсем ему не нужны, рассудил к тому же, что у него и денег-то не хватит. «Я просил тебя, — остроумно ответил он, — нарисовать только коня; сделал ты это хорошо, и я готов за него заплатить, ежели тебе угодно продать его. Что ж до сбруи, оставь ее себе или подари кому-нибудь другому, а мне она не надобна». И живописец остался в дураках, ничего не получив за добавочный труд, к коему побудила его неразумная мысль, что, чем больше предметов нагромоздит он в картине, тем больше ему заплатят.
Так уж повелось на свете и было во все времена: попросишь человека рассказать или сообщить то, что он видел и слышал, или же поведать всю правду и суть какого-нибудь дела, а рассказчик так его распишет и нарядит, что не узнать, словно лицо дурнушки под слоем румян. Каждый норовит внести свои догадки и домыслы, преувеличить, поразить, раззадорить или развлечь, — как подскажут ему страсти. Один, чтобы пришлась впору, растягивает свою историю как на колодке, другой, чтобы была изящней, подпиливает и шлифует ее, убирая по своему вкусу все сучки и задоринки, и, словно пфальцграф