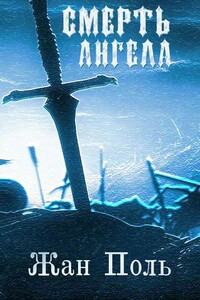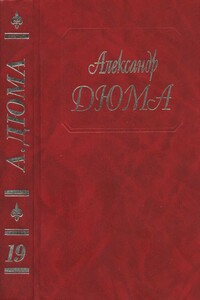Грубиянские годы: биография. Том I - страница 17
«Должны», – соглашался отец. В итоге Готвальт был подсажен на небесную лестницу, как будущий пастор и консисторская птичка; Вульту же пришлось мастерить для себя ямную лестницу в дельфийскую правовую пещеру, чтобы потом подняться оттуда уже в качестве юридического штейгера, от которого шультгейс ожидал для себя всяческих благ: сын, дескать, вытащит его из зловонной ямы, обвив золотыми и серебряными рудными жилами, неважно каким способом – то ли ведя за него судебные процессы, то ли помогая делать накопления, то ли став судебным управляющим в их местечке (а может, даже и правительственным советником, уж как оно там получится), то ли просто посылая к первому дню каждой четверти года хорошие денежные подарки.
Да только Вульт – не говоря уж о том, что он не желал ничему учиться у школьного педагога и кандидата Шомакера, – имел тот досадный недостаток, что вечно свистел на дешевой флейте, а в четырнадцать лет, в день праздника освящения храма, встал под окном замка, где играли флейтовые часы, чтобы у этих часов, как у своей первой учительницы, взять, если и не часовой, то хоть четверть-часовой урок музыки. – Здесь, думаю, самое время вставить ту аксиому, что люди вообще за четверть часа обучаются большему, чем за час. Короче говоря, однажды, когда Лукас вел сына в город для осмотра на предмет годности к воинской службе (проформы и порядка ради), Вульт сбежал с встреченным по пути пьяным музыкантом, который своим инструментом еще как-то владел, а вот собой и собственным языком уже нет; сбежал на все четыре стороны. С тех пор его больше не видели.
Теперь получалось, что юриспруденцией должен все-таки заняться Готвальт Петер. Но мальчик никоим образом этого не хотел. Поскольку же он постоянно читал – а для народа чтение все равно что молитва (ведь и Цицерон выводил слово религия от relegere, «часто читать»), – в глазах всех сельчан он уже теперь был «маленьким пастором», а мясник, выходец из Тироля, даже называл его то пасторским мальчонкой, то пасторским служкой; потому что он в самом деле был как бы маленьким капелланом или причетником, точнее, выполнял функции таковых: охотно приносил на кафедру Библию в черном переплете, застилал перед Таинством Причастия алтарь, держал блюдо с облатками и кубок, самостоятельно в середине дня (когда Шомакер тайком удалялся домой) сопровождал игрой на органе церковную службу и всегда посещал церковь даже в будние дни, если должны были кого-то крестить. Да, и если по вечерам после занятий пастор выглядывал из окна, в шапочке и с трубкой, то и Вальт надеялся, что не отстает от него, когда, с пустой холодной трубкой и в белой шапочке, приникал к своему окну, что придавало его детскому личику сходство с лицом библейского патриарха. И разве однажды зимним вечером Вальт не взял под мышку сборник церковных песнопений и не совершил, как пастор, настоящее посещение страждущей, отправившись к совершенно безразличной ему, больной артритом, дряхлой вдове портного и начав зачитывать ей текст песни «О вечность, радостное слово…»? И разве не пришлось ему, добравшись всего лишь до второго стиха, прервать это действо, потому что на глаза вдруг навернулись слезы – относящиеся не к глухой высохшей старухе, а к самому действу?
Шомакер очень близко к сердцу принимал судьбу любимого ученика и как-то вечером не побоялся заявить самому судье («Я предпочитаю, чтобы меня называли именно судьей, а не шультгейсом», – говорил Лукас), что он, мол, уверен: на духовном поприще человеку живется лучше, особенно это касается утонченных натур.