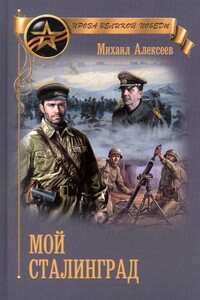По этой же тропе они ходили с Колькой Володиным в лес. По пути не могли удержаться от искушений: забирались в сад к дедушке Даниле. Набивая полные пазухи яблоками и грушами, потом щедро дарили их девчатам...
Хата Наташи стояла на другом конце села, где начинался пустырь. Минут через пять Аким был бы уже там, если бы он пошел вдоль реки, по дороге. В другой раз он так бы и поступил, но сейчас побоялся: в селе могли находиться немцы. Аким свернул влево, перелез через плетень и стал пробираться огородами. После дождя земля раскисла. Он с трудом вытаскивал сапоги из вязкой грязи. Они были ему велики, и старшина роты уже не раз предлагал сменить их. Но Аким отказывался. В иных случаях они были даже удобней: зимой, например, Аким навертывал на ноги вместо одной -- две, а то и три портянки. Вообще Аким не любил тесной обуви и одежды. Поэтому он имел всегда такой смешной вид: короткая и широченная шинель была ему по колено и висела торбой, галифе -- в гармошку, большая пилотка неудачным блином сидела на его голове. Сенька Ванин неоднократно пытался привести друга в "христианский" вид, но безуспешно.
-- Ох, уж мне эта интеллигенция на фронте, -- притворно сокрушался Семен.-- Экипировка на ней как на корове седло. И зачем только вас, Аким, в солдаты берут? Сидели бы дома да занимались своей алгеброй. А мы как-нибудь и без вас управились бы.
-- Без алгебры не управишься. Слышишь, как она бьет?! -- отвечал Аким, прислушиваясь к орудийной и минометной канонаде. -- На этой войне, дорогой мой Семен, надо думать, и думать хорошей головой, думать с алгеброй, арифметикой, физикой.
...Аким прошел половину пути и остановился. Больше всего он боялся сейчас собачьего лая. Он знал, что, если не вытерпит хоть один пес, ему тотчас же ответят дружным лаем собаки во всех концах села, и тогда беды не миновать. Но село безмолвствовало, точно вымерло. Только сыч плакал на старой колокольне да в чьем-то хлеву жалобно блеяла коза.
Аким пошел дальше. Вот он уже перелез через знакомую изгородь, открыл калитку и, пройдя метров пять, оказался у крыльца белой хаты.
Осторожно постучал в дверь. Один раз, второй, третий. В коридоре послышались шаги. Ее шаги... Аким почувствовал это сразу, всем своим существом, каждой жилкой в теле... Шаги замерли, и потом раздался испуганный голос, от которого у него помутнело в голове и захватило дыхание. Он молчал.
-- Кто там? -- еще тревожнее спросили за дверью. И только тогда он решился:
-- Это я, Наташа, Аким...
Она коротко вскрикнула за дверью.
-- Это я, Аким, -- повторил он и не узнал своего голоса. Щелкнула задвижка, и дверь распахнулась, как крыло большой серой птицы. Аким не двигался. Наташа подлетела к нему и повисла на его худой шее. Так он и внес ее в комнату. Его потрескавшиеся, жесткие губы касались ее волос. И так держал ее, пока мать Наташи, пораженная появлением Акима не меньше дочери, не зажгла лампы.
-- Мама, мамочка!.. Милая! Это ж Аким!..
-- Вижу, Наташенька, вижу!.. Боже ж ты мой, да чего ж я, старая, стою... Замерз, чай, родимый...
И старушка суетливо забегала по комнате.
Теперь Аким хорошо видел лицо своей Наташи. Оно было все таким же. Пожалуй, только чуть побледнев, отчего синие глаза казались еще больше, глубже и темней.
Наташа тоже глядела на Акима, на каждое пятнышко и на каждую новую морщинку на таком родном и близком лице. Он сидел перед ней худой и обросший густой колючей щетиной, забыв снять очки и свой драный малахай, из-под которого падали на потный высокий лоб длинные пряди русых полос. Как всегда бывает в таких случаях, они долго не находили, что сказать друг другу. Потом никак не могли заговорить о главном для обоих и спрашивали о всяких пустяках. Аким пристально следил за Наташей и видел, как все больше темнели eе глаза, а щеки наливались неровными пятнами румянца. Наташа, видимо, хотела о чем-то спросить, но не могла сразу решиться. Наконец румянец сошел с ее лица:
-- Ты прости меня, но я... я хочу спросить тебя... Скажи, как ты сюда попал?
Аким понял ее.
-- Меня отпустили, Наташа... всего на пять часов. Один час я уже провел в дороге. Осталось четыре. Там ждут меня товарищи...