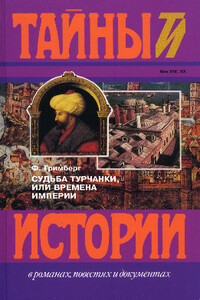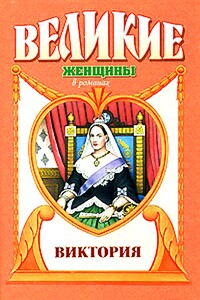Анна заметила, что мадам д’Онуа уже начинает, должно быть, толковать по-своему её молчание.
А ей ведь нужна мадам д’Онуа, нужна как помощница, сочувственница, понимающая, почти любящая... Нельзя, чтобы мадам д’Онуа сомневалась, усомнилась в Анне... И далее уже и не было времени думать...
— Кто этот человек? — спросила Анна. — Вы полностью доверяетесь ему? В полной мере?
— Да, ваше высочество. — Мадам д’Онуа сделалась собранной, сдержанной. Речь не о её любовных делах шла, о деле государственном...
— Что ж, я доверяюсь вам. Начинайте действовать...
Анна отвернулась. Мадам д’Онуа помедлила. Ожидала повторения вопроса «кто он?». Определяла, рассказывать ли о нём... Но поняла, что принцесса даже и не ждёт сейчас никаких слов об этом человеке. И уже в своей комнате старая женщина подумала, почему девочка словно бы и не хотела ответа на свой же вопрос? Разве ей не было просто любопытно? И что же? Захотела показать своё безразличие ко всему, что не идёт непосредственно к делу? Или и вправду оно уже существует, её такое безразличие?..
Анна взошла по ступенькам. Мадам д’Онуа шла впереди. Дверь уже была отворена. Анне, когда вступила, почудилось было, что в передней много солдат в мундирах и шляпах, и все говорят грубыми голосами. Страх мятежа, передавшийся, должно быть, от отца, от его детского страха стрельцов, охватил на миг словно бы всё её существо. Но так же мгновенно справилась с собою, опомнилась... Их было всего лишь трое — отцовы дежурные денщики. И четвёртый — парик пудреный, буклями — уже кланялся низко, придворным поклоном. Почудилось Анне, будто она прежде видала его. Но она видала столь многих отцовых, государевых приближённых...
И уже шла следом за мадам д’Онуа. А мадам д’Онуа уверенно и даже и быстро поспешала за этим человеком. Анна так и не успела разглядеть его...
Анна бывала в Монплезире и сейчас поняла, что направляются они всё же в отцов кабинет. И вот она уже одна — спутники-провожатые отстали, их нет, будто растворились, растаяли в глуби смутной коридора...
Анна растворила дверь и тотчас подумала, что открывает дверь слишком широко и уверенно. А ведь она — незваная... Но было уже поздно.
* * *
Отец сидел за столом, и это было непривычно. Прежде она видывала его сидящим у голландской печи, или на лавке, на стуле, боком у стола. Но сейчас он сидел за столом, был в тёмном халате. Лицо виделось Анне большим, почти одутловатым, болезненным. Этот болезненный вид отца испугал её. Быть может, и не надобно говорить с ним. Разве его здравие не дороже ей всего на свете! Разве для государства не важнее всего это его здравие?..
И сделалось странно. Ведь столько дел, весь ход, весь лад большого государства, всё зависело от этого, большого и сильного, но уже такого измученного, болезненного человека, от одного человека!..
На широкой столешнице раскинуты были бумаги и стоял писчий прибор. Государь работал.
И едва слышный, но непредусмотренный скрип растворяемой двери заставил его вскинуть голову. Круглые тёмные глаза выразили почти неприязнь... Соотнеслись в сознании Анны с этими его встрёпанными — пряди вьющиеся — торчком, густо-седыми власами... Оробела на миг. Он сердитует. Она помешала ему...
Но ежели она сейчас испугается и уйдёт, тогда... тогда уже никогда!..
И она заставила себя. Сжала в кулачок волю...
— Я прошу прощения у государя за столь внезапное и необъявленное появление своё. Осмелилась лишь по неотложности и важности дела моего. Желала бы иметь с вами беседу...
Теперь она лишь чуть опускала глаза, чтобы не встречаться прямо с его взглядом, но видеть, видеть... Ощутила эту пронзительность его глаз... Он испытующе смотрел. Он понимал!
— Войди. Сядь, — рубил коротко.
Она вошла — скромность и достоинство. Села на обитый бархатом бордовым стул с высокой спинкой. Сидела перед государем.
— В чём твоё дело? — Покамест был краток и отчуждён.
— Желала бы говорить с вами о коронации государыни...
— Что тебе в этом?..
Перебил? Или она сама сделала неладную паузу и потому перебил?..
— Дозвольте мне говорить прямо...
— Дозволяю! Далее — что?..