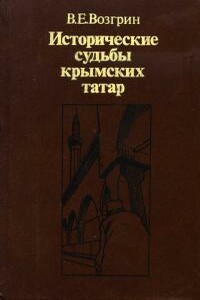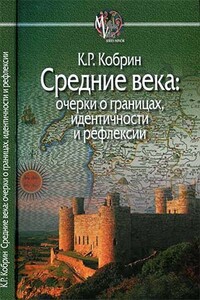Сложность словообразования в эскимосском языке усугубляется поразительно развитой системой суффиксов. Если, например, к русскому слову "дом" можно присоединить не более 8-10 суффиксов, то эскимосское "иглу", по наблюдениям Ринка, может "принять" до 80 суффиксов, каждый из которых придает слову новое значение. При этом каждое из 80 новых слов также может меняться с включением в себя 61 полусамостоятельной части слова, каждое из новообразований способно при помощи суффиксов превратиться в еще 70 новых слов, принимающих в свою очередь до 8 смысловых частиц каждое. Процитируем датского эскимолога О. Бугге: "Европеец, если только он не знал эскимосского с детства, не в состоянии выучиться говорить на нем бегло и правильно... ибо мозг его мыслит не по-эскимосски".
Наконец, крупнейшей препоной для активного использования эскимосского языка в сферах производства, науки и т.д. является архаичность его грамматики и лексики, отсутствие в нем абстрактных понятий. В настоящее время европейские термины активно заимствуются, и вполне возможно, что эскимосский займет должное место в ряду современных языков. Как говорит датский лингвист Р. Петерсен, "гренландский язык с точки зрения описательности столь же гибок, как латынь, так что решающую роль здесь сыграют исключительно практические факторы". Когда этот процесс завершится - судить трудно, пока же язык совершенно неприспособлен для перевода на него технической или специальной литературы. Попытка перевести конституцию государства также потерпела фиаско - перевод "захлебнулся" в описательных периодах, которые переводчики употребляли вместо отсутствующих в эскимосском понятий. Ими являются не только "бюджет", "закон", "конституция", "парламент", "индустрия", но и "равноправие", "власть", "образование", "выборы", "правительство", "армия" - короче, все слова, все понятия, которые человечество выработало за последние 2-3 тысячи лет. Наиболее реальным и действенным решением острых проблем двуязычия представляется широкое обучение гренландцев датскому языку; основа этой программы была заложена уже в 1950-х годах. Овладевшие датским языком гренландцы могут легко быть приобщены к сокровищам мировой культуры, науки и техники. Этого труднее достичь путем перевода на эскимосский язык и издания необозримого моря современной литературы и наследия минувших веков.
Изучение датского или другого европейского языка стало весьма популярным среди городского населения острова. Знание датского языка не только дает явную и немедленную выгоду в виде работы переводчиком или посредником между датским и эскимосским персоналом на производстве, но и открывает широкие возможности для получения дальнейшего образования в Дании, где эскимосские студенты пользуются рядом льгот. В настоящее время датским языком владеет половина эскимосского населения, число гренландцев, совершенно не знающих датского, упало уже к середине 1970-х годов до 14 %. При этом основную роль в степени знакомства с языком играет место проживания эскимосских семей - в городских поселках людей, не говорящих по-датски, почти нет, в то время как в стойбищах их сохранилось больше. Старики, даже живущие в городах, знают датский хуже молодежи, среди которой практически невозможно встретить эскимоса, не умеющего объясниться с датчанином.
Естественно, процент знания датского языка выше в смешанных датско-эскимосских семьях, при этом некоторую роль играет национальность главы семьи, его профессия.
В целом традиционная эскимосская семья, ее величина и структура были изначально обусловлены экономикой общества охотников и циклом времен года. Это была так называемая большая семья, состоявшая из супругов-стариков (или одного из них), женатых сыновей с женами и детьми, иногда и другими, более дальними родственниками. Часто несколько "больших семей" жило в одном зимнем доме, расходясь на лето по отдельным летним хижинам. Таким семейным сообществам легче было преодолевать трудности выживания в условиях Севера. Поддерживалось общее и единое производство: мужчины добывали зверя, изготавливали орудия труда, строили жилища, в то время как женщины сообща ловили рыбу, готовили еду, консервировали добычу. Неспособные к активному труду старики исполняли более легкую работу, воспитывали детей. Экономика такой семьи предполагала почти полное потребление продукта ее членами, таким образом, накоплений быть не могло. Здесь осуществлялось практически простое воспроизводство. Торговля шкурами имела лишь спорадический характер.