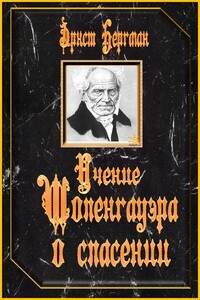Греки и иррациональное - страница 14
Второй из этих взглядов получил широкое распространение только в конце архаического времени; вероятно, его в основном придерживались мистические круги; я отложу его рассмотрение до следующих глав. Первый же является характерной особенностью архаического миросозерцания: таково учение Гесиода, Солона и Феогнида, Эсхила и Геродота. Он, среди прочего, означал, что страдания невинного в нравственном отношении человека отныне не оставались без внимания: Солон говорит о наследниках жертвы немесиса как αναίτιοι, «невиновных»; Феогнид сетует на несправедливость системы, при которой «преступник уходит от наказания, невинный же подвергается каре»; Эсхил, если я правильно его понимаю, считает, что несправедливость можно смягчить, при условии, что лежащее на потомках проклятие снято с них.[145] Тот факт, что все эти мужи принимают идею унаследованной виновности и наказание с отсрочкой, обязан той вере в семейное единство, которое архаическая Греция разделяла с другими ранними обществами[146] и со многими современными примитивными культурами.[147] Каким бы несправедливым не оказалось то или иное явление, для них это был естественный закон, который необходимо принять: ибо семья являлась нравственным целым, жизнь сына — продолжением жизни отцовской,[148] и сын наследовал моральные долги отца точно так же, как наследовал его долги материальные. Рано или поздно, но долги требовалось возвращать: как говорила Крезу пифия, причинной связью преступления и наказания была мойра — столь сильной связью, что подчас даже боги не могли ее разорвать; Крезу пришлось завершить или исполнить то, что началось с преступления одного из его предков, жившего за пять поколении до него.[149]
Грекам не слишком повезло, что идея космического закона, представлявшая некоторый шаг вперед по сравнению с прежним понятием чисто произвольных божественных сил и формировавшая основу новой, гражданской морали, оказалась очень тесно связанной с ранним представлением о семье. Ибо это означало, что весь груз религиозного переживания и религиозного закона был брошен против подлинного отношения к индивиду как к личности, имеющему свои права и обязанности. Такое отношение стимулировало возникновение в Аттике нерелигиозной, мирской законности. Как показал Глотц в своей выдающейся книге La Solidarite de la famille en Grece,[150] освобождение индивида от клановых и семейных оков — одно из важнейших достижений греческого рационализма, оказавшее безусловное влияние на развитие афинской демократии. Но уже и после того как освобождение это приобрело форму закона, религиозное сознание все еще находилось в плену прежнего семейного единства. Даже у Платона, в IV в., пальцем показывают на человека, отягощенного наследственной виной, и говорится, что нужно в виде возвращения долга испытать катарсис, чтобы получить ритуальное облегчение от нее.[151] Да и сам Платон, хотя он и соглашался с изменениями в традиционном законодательстве, в отдельных случаях считался с теорией наследственной религиозной вины.[152] Столетием спустя Бион из Борисфена все еще полагает нужным указать, что наказывая сына за причиненную отцу обиду, бог действовал как врач, который должен дать лекарство ребенку, чтобы исцелить отца; и набожный Плутарх, который цитирует это остроумное замечание, пытается, тем не менее, найти защиту для старой доктрины в обращении к известным в его время фактам наследственности.[153]
Возвращаясь к веку архаики, скажем, что греков ограничивало также и то, что функции, переданные моральному сверхсуществу, оказались преимущественно, если не единственно, карающими. Мы много слышим о наследственной вине и намного меньше — о наследственной невинности; много о страданиях грешника в преисподней или чистилище и сравнительно немного о будущих наградах за добродетель; акцент всегда ставится на карательных санкциях. Без сомнения, это отражает юридические идеи того времени: ведь уголовное законодательство предшествовало гражданскому, и первичной функцией государства являлась принудительная. Кроме того, божественный закон, как и закон раннего общества, не берет во внимание мотив поступка и не снисходит до человеческих слабостей; он лишен того человеческого качества, которое греки называли επιείκεια или φιλανθρωπία.