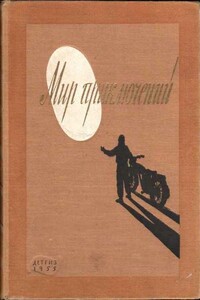— Огоньку, товарищ!
— Угощайся кашкой — это тебе за грудинку.
— К черту счеты, приятель, у меня хватит на двоих.
— За что будем пить, гражданин?
В одном из фургонов везли окованные железом бочонки с ромом. Одну из них Робердо, похлопывая себя по могучим ляжкам, велел открыть. Пили за Конгресс, за Вашингтона, Ли, за Джефферсона, который про все так красиво написал, за старого Бена Франклина. Молодой, чистый тенор запел:
— О, ласковое небо Пенсильвании,
О, зелень серебристая лугов,
О, соловьиный свист и пенье иволги,
О, лучший край в краю обетованном —
Родная Пенсильвания моя.
[5]Пейн, отродясь не способный повторить самый простенький мотив, теперь подтягивал наравне со всеми. Артиллеристы, оседлав обе пушки, раскачивались взад-вперед, отбивая такт шомполами. От костров плыл к небу полог искр, с запада веял свежий, душистый ветер. Все это было воплощенье того, что рисовалось Пейну мечтах и думах всю жизнь: простые люди земли шагают вместе, плечом к плечу, с оружием в руках, с любовью в сердце.
Осуществилось, сбылось, будто по волшебству, и он говорил себе, кто может измерить мощь, что зародилась здесь? Сообща идут вперед люди доброй воли и увидят воочию, сколь велика их сила. С таким могуществом чтó может нас остановить или хотя бы замедлить наше движенье? Что только не откроется перед нами, какие новые миры, какие деянья, надежды!
Однако назавтра возвышенное настроение сменилось более обыденным. Товарищ — он, конечно, товарищ, но и волдырь на пятке тоже не пустяк. Независимость как была делом славы, так и остается, да и мушкет-то от этого нести не легче. Мушкеты же несли большей частью новехонькие, кремневые, работы Ансона Шмидт оружейного мастера с Франт-стрит, который непримиримо расходился во взглядах с оружейниками из глубинки. На пенсильванских окраинах ружье ладили легонькое, тонкое, длинноствольное. Свинцовую пулю размером с крупную горошину оно посылало с поразительной меткостью и по дальнобойности превосходило любое известное в те дни оружие по крайней мере на сто ярдов. Но Шмидт рассуждал — и справедливо — кому, кроме отличного стрелка, будет прок от подобного ружья? Он разработал собственное и окрестил его «патриотка»: с широким каналом ствола, окованное железом и неподъемное, точно маленькая пушка. Оно стреляло чем угодно — дробью, гвоздями, битым стеклом, кусками проволоки камнями и производило на расстоянии в тридцать ярдов грозное разрушительное действие. Одна беда: по весу оно было рассчитано на силача.
Ополченцы силачами не были. Первые часы они еще тащили на себе мушкеты, а там кому-то пришло в голову погрузить свое оружие на фургон с провиантом. Скоро весь продовольственный обоз трещал под тяжестью сотен «патриоток», и Робердо, буквально синий от негодованья, орал, что это вообще за армия, если шагает без оружия?
— Верхом оно, конечно, способней, толстопузый, — промолвил генералу кто-то из солдат.
— Ах ты, поганец, — ну, жди за это сто ударов плетьми!
— Это кто же их, интересно, отвесит?
Робердо отступился, но обещал, что напишет об этом донесение в Континентальный конгресс. Люди устали; их потные, запыленные лица не предвещали добра, так что лезть на рожон, да еще в самом начале кампании определенно не имело смысла. Робердо дал порученье Пейну написать в Военный комитет следующее: «Ввиду того, что рядовой Александр Хартсон позволили себе вести изменнические разговоры…»
— Я бы не стал употреблять подобные выраженья, — перебил его Пейн.
— Что такое?
— Да не было в его разговорах никакой измены. Наказали бы его лучше плетьми, и вся недолга.
— Я, кажется, сам знаю, как мне наводить порядок в моей бригаде, — сказал Робердо. — Пишите то, что вам говорят, вы для этого здесь находитесь. Не хватало еще, чтобы каждый писарь поучал меня, как следует вести себя в армии.
— Слушаю. — Пейн кивнул.
Один из солдат, долговязый и угловатый, пристрастился шагать рядом с Пейном. Звали солдата Джейкоб Моррисон, выходец из дикой и прекрасной долины Вайоминг. Жену его и ребенка унесла оспа, и он, затосковав от жизни бобылем в глухом лесу, подался в Филадельфию, нанялся работником на мельницу и там вступил в ряды ассоциаторов. Вооруженный длинноствольным ружьем, одетый от рубахи до сапог в оленью кожу, он — пожалуй, единственный из разношерстного отряда ополченцев — казался приспособлен для дела, на которое они пустились. Пейн приглянулся ему хотя бы тем, что продолжал сам нести свой мушкет. Однажды он обратился к Пейну своим медлительным, тягучим говором, отличающим пограничных жителей: