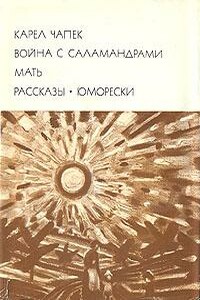Лелин же век подходил уже к пятидесяти, и поугас наивный девичий блеск поблекших голубых глаз, а русые некогда волосы приходилось каждую неделю подкрашивать, чтобы скрыть беспардонную седину. Да и отношения с дочерью как-то незаметно изменились, они словно бы поменялись ролями — теперь не Леля, а Чижик была как бы старшей сестрой.
Из шестнадцатого округа давно пришлось переехать в крохотную нелепую квартиру на рю де Ля Гарп — ниша-кухонька отделялась от комнаты ситцевой занавеской, а уборная — фанерной дверью, так что было слышно, как течет, булькая, вода в неисправном унитазе, и на ночь приходилось раскладывать два кресла-кровати.
Чижик очень походила на мать, какой та была еще несколько лет назад, — такие же ярко-голубые глаза, разве что в них была не наивная непосвященность в теневые стороны жизни, а льдисто-холодное и трезвое знание того, чего ей надо, да волосы она не укладывала в пучок, а, напротив, распускала тяжелой золотистой волной по плечам, и, в угоду моде, не было у нее такой пышной высокой груди, как у матери, от которой и пришел некогда в угар юный студент Университета дружбы народов. Чижик знала себе цену и готова была постоять за себя всеми подручными средствами, и Леле иногда приходило на ум, что будь Чижик на ее месте, бейрутской тиранке-свекрови никогда бы не удалось выжить ее из дома и развести с мужем. И она свято верила, что рано или поздно Чижик добьется своего.
С каждым годом Чижик все более отдалялась от матери и даже хотела было разъехаться с нею и жить в собственной квартире, но денег на это пока не было, и она, приходя за полночь домой, когда мать уже спала, старалась не разбудить ее, чтобы не надо было отвечать на вопросы, где и с кем она провела вечер, и выслушивать бесполезные советы. Но Леля все-таки просыпалась и потом долго не могла уснуть, слушая легкое, безмятежное дыхание дочери и думая о том, что где-то в далеком и после долгой войны наверняка изменившемся до неузнаваемости Бейруте у нее растет сын, который и не подозревает о ее существовании и наверняка похож не на нее, а на отца.
Однажды, вернувшись домой под утро, Чижик сама ее разбудила и сообщила, что ей сделал предложение араб, студент Сорбонны, намного ее моложе, совсем еще, собственно, мальчик, зато из очень богатой семьи, чуть ли не миллионер, его отец чем-то там торгует, — и у Лели разом похолодело сердце, ей почудилось, что то не просто случайное повторение ее собственной жизни, а как бы грозящий ей, а заодно и дочери возмездием и карой перст судьбы. Но ни объяснить самой себе, а тем более Чижику, ни справиться со своими нелепыми страхами она не могла. Да и Чижик ее бы не услышала, потому что, не успев лечь в постель, тут же и уснула, но теперь ровное дыхание спящей дочери не успокаивало Лелю, не внушало ей, как прежде, что все будет хорошо, и Чижик своего добьется, и жизнь у нее сложится совсем не так, как у матери. Напротив — в ровности и безмятежности этого дыхания она слышала теперь лишь ее беззащитность, такую же, как когда-то у нее самой, уязвимость перед не знающей поблажек жизнью и думала, что, очень может быть, дочери суждено расплачиваться не только за свои, но и за материны грехи и заблуждения.
Назавтра она попыталась, запинаясь и перескакивая с одного на другое, рассказать дочери все начистоту про свои опасения, но Чижик, проспавши до полудня и проснувшись, как это всегда с ней бывало по утрам, в дурном расположении духа, и слушать ее не стала, а под конец напрямую выложила, что та попросту ей завидует — у нее с ее арабом ничего не получилось, но уж она-то, Чижик, своего не упустит, не родился еще такой человек, тем более какой-то черножопый, которому она далась бы в обиду. И Леле ничего не оставалось, как потребовать, чтобы Чижик познакомила ее со своим арабом прежде, чем лечь с ним в постель, на что та коротко ответила, что совет хорош, да жаль, запоздал, но что перед тем, как выйти замуж, она непременно покажет матери своего суженого. Она так и сказала: «суженый», как бы в насмешку над старомодными предрассудками матери.