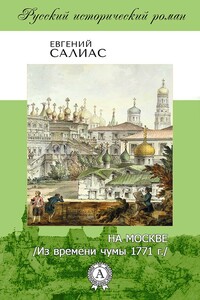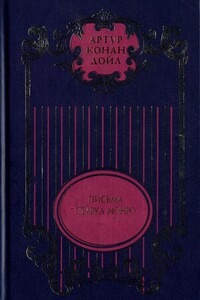— Отчаяние воспрещено христианину, — отвечал набожный священнослужитель. — Церковь признает его усилием ада отторгнуть кающегося от отеческого лона божия. Станем совокупно молиться вечной любви, да успокоит она страдающее сердце ваше, да снидет на вас мир и сладкое упование на всемогущество милующего создателя!
Князь Бериславский взял за руку графа.
— Я приготовил тебе эту сцену, — сказал он ему, — слышав от тебя, что дочь твоя умерла невестою полковника Катуара, грузина, который пользовался в имении твоем от ран, я скрыл, что мы с ним старинные друзья, чтоб обрадовать тебя в Смоленске нечаянностью увидеть его после двадцатилетней разлуки.
— Очень благодарен тебе, Евгений, — отвечал Обоянский, — я открою моему доброму другу цель моего странствования; пусть он увидит желания моего сердца и благими своими советами споспешествует лучшему исполнению оных.
Вошедший слуга доложил преподобному отцу архимандриту, что в кабинете, по его приказанию, приготовлен чай. Друзья поднялись и, пройдя через одну комнату, вошли в освещенный двумя лампами пространный кабинет хозяина — стены были обставлены шкалами, в коих хранилась его библиотека; в углу возвышалось мраморное распятие, а близ оного, вдоль стены, стоял большой письменный стол, с бумагами и несколькими книгами. Двои креслы поставлены были к чайному столу, против маленького дивана, близ камелька; и между тем как в столовой приказано было готовить гостям легкий, монашеский ужин, двери были затворены, и приятельская беседа оживилась веселыми рассказами старого.
— Отец архимандрит, — сказал наконец Обоянский, — я приступаю к объяснению вам причины моего путешествия. Смерть дочери, единственной моей надежды, всего моего сокровища, затмила около меня тот земной рай, которым я наслаждался, оставив поприще политической деятельности. Я узнал о моем несчастии в Москве. Люди, так называемые в обществе — друзья, вырвали из рук моих пистолет, которым думал я прекратить неизъяснимые мои страдания, и я остался жив. Они увлекли меня силою в вихорь бурного света, чтоб заглушить поминутно новыми впечатлениями неумолкающую тоску мою. Я делался всем, чем они хотели. Друг мой, вы знаете успехи, оказанные мною. Им удалось возбуждением во мне новых бурных страстей развлечь или, так сказать, отуманить меня. Я не хочу повторять того, что вам известно и воспоминание о чем слишком живо теперь в расстроенной голове моей. Переступаю через двадцать лет моей нераскаянной жизни, к той минуте, которая была моим первым пробуждением. Я признаю оное чудом, по неизреченному милосердию божию надо мной совершившимся.
Прошедшую зиму я провел, против моего обыкновения, в деревне. Помните ли вы расположение моего дома? В левом флигеле, под окнами которого сад примыкает к лесу, есть четыре теплые комнаты, те самые, где жила прежде покойная дочь моя и где обыкновенно я останавливался на время непродолжительных моих зимних приездов. Большой дом был для меня как могила, в которой похоронены лучшие минуты моей жизни: я никогда не ходил туда. В один вечер, и именно 26 февраля, мне приносят письмо с почты; читаю… Помните ли вы девицу Кобрину, подругу моей дочери?.. Она после вышла замуж за майора Быхова и жила в Смоленской губернии: это письмо было от нее; она уведомляла меня о смерти своего мужа и, полагая, что я в Москве, именем моей дочери убеждала принять участие в ее детях, которые были в тамошнем университете и имели нужду в покровителе, чтоб вступить выгодно в службу. Я прочитал письмо это, и оно так живо напомнило мне прежнее. Мною овладела мало-помалу какая-то необыкновенная мрачность, и мысли одна другой чернее закипели в голове моей. Как все ничтожно и суетно показалось мне в мире, на этом кладбище, где все больше становится любимых могил, нежели людей! Я велел затопить камин; я брал книгу; я пел, что войдет в голову, и ничем не мог себя рассеять; в положении полубольном я бросился на софу, стоявшую вблизи камина; как она мягка, сказал я себе, стараясь чем-либо развлечь мое внимание, и вместе с этим вскочил, как пронзенный кинжалом в сердце: я вспомнил, что эту самую софу приказал я некогда переделать по желанию моей дочери; я так живо вспомнил ее — казалось, она сейчас только сказала: эта софа очень жестка, а я люблю сидеть на ней. Бедная Мария, вскричал я, упав на колени перед образом, — и… этот образ был тот самый, которым я когда-то благословил ее… слезы покатились по щекам моим; сокрушение сердечное заступило место тяжелых дум. Я встал с большею свободою головы и с сладкою, неизъяснимою грустью, какой давно уже не чувствовал.