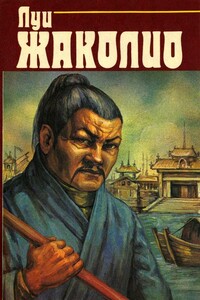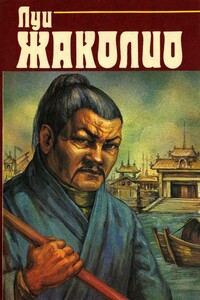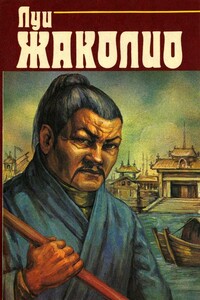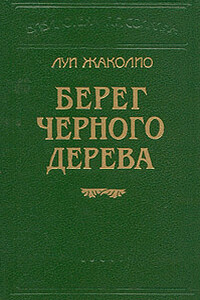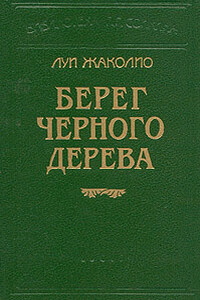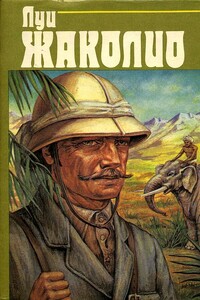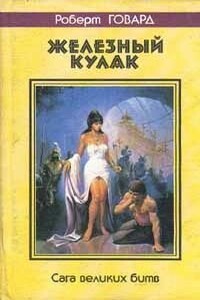Между тем осаждающие, несмотря на неудачу, постигшую их намерение поджечь дверь Сигурдовой башни, не отказывались от мысли овладеть Гуттором и Грундвигом и освободить Надода Красноглазого.
Однако злодей, видя, что осада все еще продолжается, начинал мало-помалу утрачивать свою самоуверенность. Он понимал, что каждая лишняя минута увеличивает шансы его противников. Кроме того, он окончательно разочаровался в ловкости своих сторонников, которые до сих пор не сообразили дать ему как-нибудь знать, исполнены ли его приказания.
Вдруг он вздрогнул всем телом, услыхав через бойницу отрывок разговора между двумя из осаждающих:
— И чего ждут? — говорил один. — Несколько фунтов пороху подложить — и дверь разлетится вдребезги.
— Ты разве забыл, что Торнвальд уже израсходовал весь порох на главное дело? — отвечал другой.
— Почему же не взять оттуда обратно, сколько нужно? Ведь то дело все равно не выгорело?
— Кто тебе сказал, что оно окончательно оставлено? Седжвик, принявший начальство после ухода Торнвальда, полагает, что дело непременно должно выгореть, и даже велел прекратить собирание хвороста для костра. Мы будем только сторожить башню, ничего пока не предпринимая, а если к вечеру розольфцы сюда не соберутся, то уж это будет черт знает что за несчастье для нас.
Затем Надод слышал, как бросили на землю охапку хвороста, после чего разговаривающие удалились.
Если бы Грундвиг, оставшийся при пленнике один, так как Гуттор беспрестанно поднимался на башню обозревать окрестность, — если бы, говорим мы, Грундвиг взглянул в эту минуту на пленника, он прочел бы на его лице самую злобную радость, которая не преминула бы навести его на размышления.
— Все ничего! — сказал, возвращаясь с вышки, Гуттор. — Я, по правде сказать, рассчитывал, что нас скорее хватятся и будут отыскивать… Эти негодяи не хотят больше раскладывать костер. Их старший приказал, чтобы они перестали носить хворост, и сосредоточил весь отряд шагах в ста отсюда. Они о чем-то советуются; должно быть, что-нибудь особенно скверное замышляют против нас… Если это еще долго будет продолжаться, то я даю тебе слово, что сверну Надоду шею и сделаю вылазку.
— Вот и отлично, — заметил Грундвиг. — Ты будешь авангард, я арьергард, а в центре… в центре будет то расстояние, какое окажется между нами.
— Смейся, сколько хочешь, но, по-моему, это просто унизительно — подвергаться осаде от всяких бродяг, у которых даже огнестрельного оружия нет.
— А у нас разве есть оно, Гуттор?.. Ну, да это все бы ничего; будь я такой же силач, как ты, я бы согласился на твое предложение, но ведь дело в том, что ты очутишься буквально один против всех… Разве это не сумасшествие будет?
— Поверь, я этой дубиной положу на месте одним ударом человек пять или шесть, а они не…
Богатырь замолчал. Вдали послышался звук рога.
— Это они! — радостно вскричал он. — Это Гаттор трубит!
Он бросился наверх и почти сейчас же спустился обратно.
— Они и есть! — подтвердил он. — Герцог с сыновьями, и при них двадцать пять или тридцать всадников… Как тебе покажется? Все осаждающие попятились, ни одного не видать.
— Они не трусы, Гуттор, — заметил Грундвиг, качая головой, — тут какая-нибудь загвоздка.
Надод был вне себя от радости, которая выражалась у него отвратительными гримасами, так что лицо его казалось еще противнее, чем всегда.
Десять минут спустя дверь башни отворилась. Вошел герцог и с ним два его сына, Олаф и Эдмунд.
Смерть Гленноора опечалила герцога. Он в грустном раздумье остановился над трупом своего старого слуги, как вдруг услыхал сзади себя голос и обернулся. Увидав Надода, Харальд невольно попятился, почувствовав вдруг крайнее отвращение.
— Герцог Норландский, — говорил негодяй, — имей же мужество взглянуть на дело рук своих. Этот человек умер, но он не страдает больше, тогда как я по твоей милости двадцать лет терплю ужасные мучения, которых и описать нельзя.
— Кто ты такой? — спросил, видимо смущаясь, герцог.
— Я Надод, твой бывший крепостной, по прозванию Красноглазый. Из-за твоей жестокости я сделался существом, внушающим отвращение всякому, кто на меня ни посмотрит. Узнаешь ли ты меня?