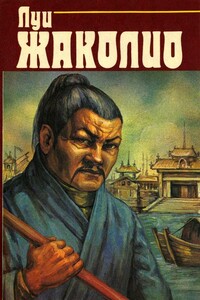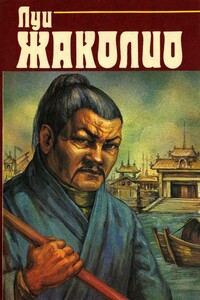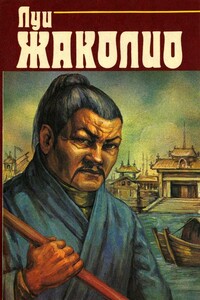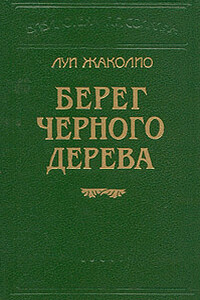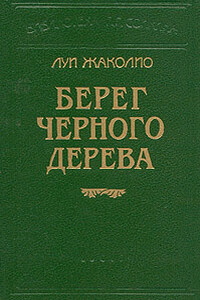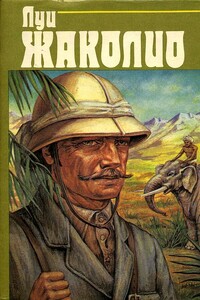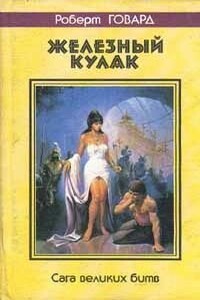— Не упорствуй, Грундвиг, — возразил ему Эдмунд. — Поверь, что ты будешь нам тут полезнее. Ведь ты уже стар, ты можешь не вынести путешествия к Северному полюсу. Подумай, как мне будет горько, если с тобой что-нибудь случится. Ведь я теперь смотрю на тебя, как на своего второго отца, после того как умер мой батюшка.
— О, Эдмунд! — вскричал, рыдая, старик. — Зачем вы мне это говорите? Вы довели меня до слез, как малого ребенка. Делайте со мной, что хотите!.. Если вы приказываете — я остаюсь!..
Эдмунд бросился в его объятия.
— Спасибо, спасибо, старый и верный друг! — воскликнул он. — Ну, а ты, Гуттор, согласен остаться? — обратился он с вопросом к богатырю.
— Как скажет Грундвиг, так я и сделаю, — отвечал тот. — Дайте нам с ним посоветоваться.
Пока происходили эти разговоры, поднялась ужасная северная буря. Ехать было опасно, и потому Фредерик Бьёрн отложил отъезд до следующего дня.
Когда об этом узнали эскимосы Пэкингтона, Йорник явился к герцогу и предложил:
— Господин мой, так как вы отложили отъезд, то у нас впереди свободный день. Мне пришла по этому поводу одна мысль, которую я и прошу у вас позволения осуществить.
— Говори.
— Вы видите эти ледники в двух милях отсюда? Они представляют высокую стену, через которую трудно перебраться. Вот я и придумал съездить со своим товарищем и посмотреть, нельзя ли будет эту стену объехать.
— Очень хорошо, мой милый… Вообще я чрезвычайно доволен и тобой, и твоим товарищем. Можешь быть уверен, что я вас обоих щедро награжу за службу.
— Спасибо, господин мой. Вы очень добры.
— Поезжай, куда ты говорил, и осмотри. Возьми мои легкие сани и собак… Ты, разумеется, возьмешь с собой и своего товарища?
— Да, господин мой.
— Прекрасно. Когда вернешься, расскажи мне обо всем подробно.
Несколько минут спустя легкие санки герцога Норландского, запряженные шестью лапландскими собаками, стояли совсем готовые у дверей палатки, в которой жили Густапс и Йорник.
Там их можно было хорошо разглядеть обоих. Йорник был обыкновенный эскимос — с темно-бурой кожей, низким лбом, приплюснутым носом и узкими глазами, но его товарищ… Его товарищ натирал себе в это время лицо медвежьим салом для предохранения от мороза и снял с рук перчатки. Руки у него были белые, той белизны, которой отличается кожа рыжих людей. Лица его разглядеть было нельзя, так как он натирал себе щеки, не снимая с головы капюшона.
— Ну, теперь можно ехать, — объявил Густапс, окончив свой туалет.
— Тише, тише! — предостерег его Йорник. — Разве можно так рисковать.
— Кто же нас может услышать? — возразил с усмешкой «немой» Густапс. — Какой ты, однако, трус!
— Вы вот все не верите мне! — продолжал Йорник. — А между тем за нами постоянно следит тот человек, которого вы называете Гуттором… ну, одним словом, этот богатырь… Я и сейчас не уверен в том, что он не прокрался сюда, в палатку и не подслушивает за нами…
Густапс сделал жест нетерпения: палатка была так тесна, что в ней не мог спрятаться такой великан, как Гуттор.
— Твои глупые опасения просто смешны, — проговорил «немой». — Замолчи, пожалуйста, и поедем.
Йорник не стал больше разговаривать. Оба эскимоса вышли из палатки, сели в сани и с быстротой стрелы понеслись по снежной равнине.
* * *
Едва успели сани отъехать, как из-за палатки поднялась какая-то громадная фигура, лежавшая до того времени на голой мерзлой земле. Этот человек с трудом двигался; все члены его были парализованы от холода. Он сел, но встать на ноги не мог, чувствуя, что замерзает.
То был Гуттор. Он прокрался к палатке бандитов, лег на снег и пролежал там все время, пока злодеи разговаривали. Он слышал весь их разговор. Мало того: большой парусной иглой он проколол в палатке отверстие и, приложившись глазом, имел возможность внимательно разглядеть их.
После долгих усилий он встал наконец на ноги, но не мог ступить ни шагу: холод одолевал богатыря. Он начал кричать, звать на помощь, но страшная буря заглушала его голос.
Палатка бандитов стояла всего шагах в пятнадцати от общего лагеря, но в такую бурю, какая свирепствовала теперь, даже и это расстояние было слишком велико для человеческого голоса.