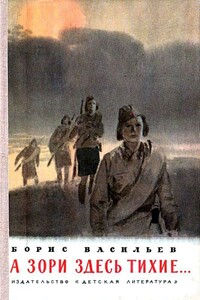Луговка
(Рассказ старого лесника)
Летят по весне журавли.
Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое.
Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.
Наше поле лежит в виду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки — все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые и чёрные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьётся надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговок очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», — подумал я.
— Чьи вы, чьи вы? — кричит чибис.
— Я-то, — отвечаю, — свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашёл в тёплых краях?
Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и — в сторону: плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу — сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле четыре яйца. Вот ведь как у них: невитые гнёзда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца, — чисто как на столе.
Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнёс и яйца не тронул.
Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу — гнездо и четыре яйца.
Жена говорит:
— Вот бы поглядеть!
— Погоди, — отвечаю, — будем овёс сеять, и поглядишь.
Вскоре после того вышел я сеять овёс, жена боронит.
Когда я дошёл до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.
— Ну вот, — говорю, — любопытная, смотри.
Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.
Так посеял я овёс на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, — нет ничего: значит, вывела.
С нами в поле картошку сажать увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегает за канавой по лугу, мы не глядим на неё: жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим — во всё горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка, баловник, гонит по лугу четырёх чибисёнков — серенькие, длинноногие и уже с хохолками, и всё как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:
— Да ведь это наши!
Я кричу на Кадошку; он и не слушает — гонит и гонит.
Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. «Ну, — думаю, — схватит их Кадошка!» А чибисы — по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик ножками — и на той стороне.
То ли вода ещё была холодная, то ли Кадошка ещё молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подоспели и отозвали Кадошку.
В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трёх из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.
Подержал я у себя этих чёрных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас во дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.
С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнёзда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную чёрную курицу — Пиковую Даму.
Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая, тёплая погода, и Дуся повела своих чёрненьких к пруду, и Пиковая Дама своих — в огород за червями.