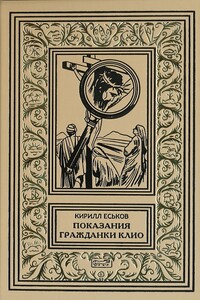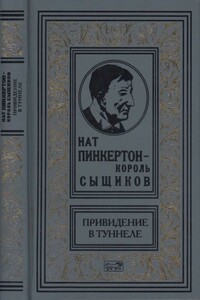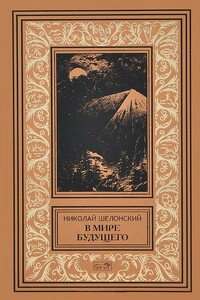Миронов знал, что ему нет и не будет прощения. Все это сходилось, и достаточно правдоподобно.
Самоубийство получало достоверное объяснение. Миронов не мог не узнать Иванова, комиссара, которого он расстрелял своей рукой. И можно себе представить впечатление, произведенное на него фамилией Иванова в указе Верховного Совета, перспективой встречи с «расстрелянным».
Все как будто становилось на место.
Но… как будто, не больше.
Все было логично, но только в том случае, если Иванов прав и Миронов — Михайлов не знал, что выпустил очередь автомата в воздух, никого не убив, если он промахнулся не намеренно.
Тогда ясно. Только тогда!
Но можно ли допустить, что опытный воин промахнулся с близкого расстояния, не задев ни одного человека?
Очень трудно!
А если это было сделано намеренно и только случайно не повлекло за собой казни самого Миронова, то все его поступки и поведение в отрядах Нестерова и Добронравова становятся еще более непонятными.
Оставался факт присутствия в номере Михайлова, непосредственно перед самоубийством, какого-то человека, передавшего ему пистолет «вальтер». Кто он и зачем передал этот пистолет?
Оставался психологически необъяснимый факт приезда Миронова — Михайлова в Москву для получения награды. Считать себя достойным ее он не мог и, безусловно, не считал…
Капитан чувствовал, что его ожидает беспокойная ночь, что ему не заснуть.
Афонин вообще не ложился. Остаток ночи он ходил по своей комнате, надеясь как-то свести концы с концами и прийти к какому-нибудь выводу в «деле Михайлова».
Увы! После рассказа Иванова это дело не только не прояснилось, как ему показалось сгоряча, а, наоборот, еще больше запуталось. Противоречия стали еще резче, еще необъяснимее.
Капитан ясно чувствовал, что не хватает какой-то зацепки, какого-то одного звена. Будь это звено, все стало бы ясно!
Есть ли оно у полковника Круглова?..
Афонин приехал в управление так рано, что пришлось ожидать более часа.
Круглов выслушал его, не перебивая ни единым вопросом или замечанием. Когда Афонин закончил свой доклад, полковник минуты три молчал, о чем-то думая.
— Майор Дементьев еще не вернулся, — сказал он неожиданно для Афонина, — и от него нет еще никаких известий. — Круглов снял очки и снова замолчал, тщательно протирая стекла. — Похоже, что мы приближаемся к концу. Но конец этот может оказаться двояким. В зависимости от того, каков будет результат у Дементьева. — Он посмотрел на капитана. — Ты еще не догадался?
— О чем?
— Обо всем!
— Пока нет.
— Впрочем, с таким случаем мы действительно столкнулись впервые. И не будь я знаком с документом, о котором вчера упомянул, я тоже бы не догадался, наверное. Но я хочу, чтобы ты сам решил эту загадку! Это тебе по силам. Итак! Допустим, что тебе поручили важное задание в тылу врага. Допустим, что тебе удалось войти в доверие к немцам. Твои сведения чрезвычайно важны и спасают жизнь многим советским людям. Словом, ты очень нужен командованию нашей армии, и заменить тебя некем. И вот случилось так, что у тебя нет иного выхода, как только самому расстрелять наших людей. Иначе ты был бы разоблачен и погиб, как разведчик. Понял ситуацию, Олег Григорьевич?
— Понял.
— Как бы ты поступил?
— Отказался бы от участия в расстреле!
— И провалил бы задание?
— Да! — Афонин с удивлением слушал эти странные вопросы. Можно было подумать, что сам Круглов поступил бы иначе в таком положении.
— Несмотря на то, — продолжал полковник, — что твое самопожертвование ничего не изменило и осужденные все равно были бы расстреляны, но только вместе с тобой? А твоя гибель стоила бы жизни гораздо большему числу наших люден?
— Да, несмотря на это! С кровью товарищей на руках жить нельзя. Я все равно уже не годился бы в разведчики. Впрочем, — перебил Афонин самого себя, — я поступил бы иначе. Да, совсем иначе. Я согласился бы. А получив в руки автомат, направил бы его на палачей. Захватил бы с собой на тот свет как можно больше.
— Другого ответа и не могло быть, — задумчиво произнес полковник. — И мы знаем много случаев, когда разведчики губили себя, но не могли пойти против совести, совести советского человека. А почему не могли?