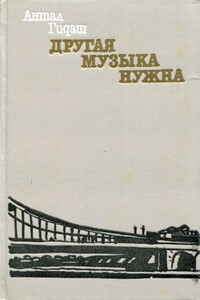После обеда г-н Фицек сидел на балконе и мечтал о будущем. На площади Калвария, где разместилась рота солдат, он увидел, как один офицер подскочил к идущему домой Отто. Отто стоял в соломенной шляпе перед офицером и что-то объяснял ему, а офицер выхватил саблю и ударил Отто. Отто побежал, и его соломенная шляпа упала: офицер погнался за Отто и бил саблей убегающего юношу.
Господин Фицек побледнел и подошел ближе к перилам.
— Чтоб ему пусто было! — завопил он. — Моего сына бьет! Убьет его!
Господин Фицек вскочил и выбежал из дому как был — в рубашке, брюках и в ночных туфлях. На нем не было подтяжек; он засунул руки в карманы брюк и так поддерживал штаны, чтобы они не упали. В воротах он встретился со своим испуганным сыном.
— Сын мой, что с тобой сделали? — спросил г-н Фицек, бледный как смерть. — Я убью этого негодяя! Пойдем немедленно!
— Папа! — крикнул Отто. — Он же заколет вас! Не ходите туда!
— Нет, пойду… Ах, сволочь, он посмел тебя бить? Моего сына!..
Он оттолкнул от себя Отто и выбежал на улицу.
Отто стоял в воротах, он не решился бежать за отцом.
Господин Фицек сначала бежал быстро, потом — около площади — вдруг замедлил шаг, поднял упавшую шляпу Отто и, поддерживая брюки, медленно приблизился к офицеру.
— Что вам надо? — закричал на него прапорщик. — Здесь ходить воспрещается!
— Простите меня, глубокоуважаемый господин поручик, — сказал Фицек, поклонившись, — я только на секунду…
— Никаких разговоров! Немедленно убирайтесь! Здесь ходить воспрещается.
— Я хотел бы сказать вам что-то важное… правда, очень важное…
Офицер взглянул на стоявшего в рубахе и домашних туфлях Фицека. «Что ему надо?»
— Говорите! Но живей!
— Глубокоуважаемый господин капитан, я — Ференц Фицек, старший кельнер кафе «Орсаг-Вилаг».
«Наверное, демонстранты разбили им витрины», — подумал прапорщик.
— Мой сын сейчас проходил здесь, он очень порядочный ребенок, мухи не обидит, честный ребенок, и вы побили его саблей… Позвольте, это не дело…
— Убирайтесь немедленно! — крикнул на него офицер. — А то я вас изувечу! Убирайтесь! Я уже сказал вам, что здесь ходить воспрещается.
— Ах, так! — сказал Фицек. — Здесь воспрещается ходить? Извините, я не знал. Вчера еще не воспрещалось, простите. Умоляю вас, простите меня, господин капитан, я не знал!
— Идите к черту! — злобно крикнул прапорщик и отвернулся.
Фицек с соломенной шляпой в руке вернулся к себе домой. На балконе стояла его семья, с волнением следя за происходящим на площади, и ждала, когда офицер накинется на главу семьи. Естественно, что из разговора не было слышно ни слова: они видели только, что офицер отвернулся, а Фицек со шляпой в руках пошел обратно.
— Слышали вы разговор? — спросил Фицек, входя в дверь.
— Нет, — ответили все в один голос.
— Так я сказал ему! И стыдно ему стало. Со мной нельзя разговаривать как-нибудь, это вы себе зарубите на носу. Я — Ференц Фицек, и я не позволю этого! Но тебя, Отто, я изувечу, если ты еще раз пойдешь в такое место. Куда ходить воспрещается. Своего отца подвергаешь опасности! Кто ты такой?.. Сицилист? Черт тебя подери! — И от великого испуга он вздохнул.
А когда на другой день кельнер рассказал о том, что премьер-министр растратил четыре миллиона восемьсот тысяч форинтов, Фицек воскликнул:
— Четыре миллиона восемьсот тысяч форинтов! Боже, сколько денег! Если бы этому негодяю дали их пощечинами… так себе, средними пощечинами… он уже на десятой тысяче окочурился бы.
Этим заявлением он исчерпал свою политическую точку зрения. Он заговорил только ночью, когда в темноте его разбудило дребезжание стекол от выстрела на площади Калвария.
— Я не понимаю и того, зачем днем ставить весь город вверх дном, но уж ночью-то вполне можно было бы войти в положение людей. Спать не дадут, чума их заешь!..
12
Новак прочел воззвание партии в ночь на двадцать четвертое. Он еще находился вместе со своей группой на Фердинандовом мосту, когда к ним пришел разносчик газет. Огромные зарева пожаров на проспекте Ваци и в Андялфельде были единственными светлыми точками в ночной темноте: ни газ, ни электричество не горели.