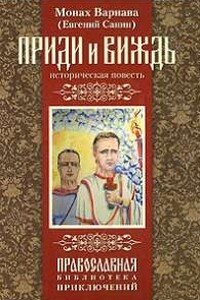Я стал русским казаком. Тринадцать лет бродил я по Руси, ждал встречи с Лазаревым. В Петербурге я не смог проникнуть к нему: слуги знали меня в лицо… И вот я здесь, в его владениях. Не знаю как, но мы встретимся. Я верну Дерианур индусам. Это благородный и благодарный народ. И они меня вознаградят свыше всякой цены алмаза, потому что ни в какой иной земле так не ценят святыни.
— Темный ты человек, безродный, — сказал Еремка.
— Родина там, где хорошо…
— Не греши.
— Мне нужен помощник. Пойдем со мной.
— Нет, брат, я тебе не попутчик.
— Пожалуй, ты прав, — после раздумья согласился Федор. — У нас дороги разные. Вам, работным людям, терять нечего: либо гроб, либо топор в руки — троны рубить…
Он достал огниво, высек искру, раздул трут и запалил новую лучинку. Лицо его было строгим и печальным, на обнаженной груди виднелся аббас — восковой шарик от церковной свечи, который носят в знак обета.
— У каждого свое, — произнес Еремка и разом заснул, будто в воду канул.
Федор вынул из кармана маленький тонкий кинжальчик, положил на лезвие волосок, дунул. Волосок разлетелся пополам.
— Яман, — сказал Федор в лег рядом с Еремкой.
2
Когда утром, разрыв лопатами снег, они выползли из землянки, в лесу стояла такая тишь, словно вдруг заложило уши. Еремка долго, жадно прислушивался к этой великой тишине. Где-то нежно и призывно просвистел жулан, ему откликнулся второй, и опять все тревожно замерло.
Но по землянкам уже бегал угольных дел нарядчик, поднимал народ. Начали счищать снег с поленниц, класть дрова в кучи, сбрасывать белые пласты с угольного склада. Тихон, увидев Еремку, радостно кинулся к нему, но издалека послышались дергающийся звон бубенцов, всхрапы лошадей. Встревоженные углежоги засуетились, нарядчик заковылял на край вырубки. Оттуда уже бежали солдаты, а впереди сам Дрынов со своею плеткой.
— Взять бунтовщика! — кричал он, указывая на Еремку.
— Взять!
Дюжий углежог бросился к Еремке, но Федор точным ударом сбил его с ног. Еремка выхватил из кучи полено, взмахнул им — и Дрынов ухнул в снег. Проваливаясь в сугробы, Еремка убегал к лесу. Солдаты выковыривали из стволов паклю, забивали пули, сыпали на полки порох. Загремели выстрелы, разбрасывая трескучее эхо, но пули прожужжали в стороне. Еремка вытянул из-под еловых лап обитые лосиной шкурою лыжи и оглянулся в последний раз. Солдаты переваливались за ним гуськом, размахивая ружьями. Еремка показал им дулю и нырнул под ели.
Сыпался тяжелый снег. На редких полянах змеились цепочки заячьих следов, их перечеркивали мягкие вдавыши лисьих лап. Иногда попадался осторожный след волка. Цепляясь за ветки, Еремка поднялся на гору, перевел дух.
Сердце закаменело. Думал ли он сейчас о Глаше, о детишках, о своих товарищах? Пожалуй, нет. Он отгонял эти думы, потому что они вынудили бы его вернуться. Только глубоко в душе красненьким угольком теплилась надежда: не будут же вечными эти муки, придет же когда-нибудь он в завод и скажет: «Государь Петр Третий даровал вам, мужики, волю. Даровал реки и горы, леса и недра земли. Все теперь ваше!»
А пока не бросят же Моисей, и Данила, и Еким, и другие его товарищи Глашу в беде…
Белым-бело в лесу, даже жалко мять лыжами этакую белизну. Но надо идти, идти!.. А куда?.. Еремка снова остановился. Будет ночь, в лесу полно волков, а у него, кроме ножа, нет ничего. Умереть с голоду, быть разорванным волчьими клыками? И назад нет возврата, нет! Как в сказке: направо пойдешь — конец, налево пойдешь — карачун, прямо пойдешь — крышка.
Откуда-то раздался натужный храп, заливистый вой. Еремка спрятался за скалу, выглянул. Понизу, прыгая по снегу, промчался сохатый. На его холке цепко сидел матерый зверь, а с боков и сзади бежали серые хищники, взлаивая и подвывая. Сохатый провалился по грудь и встал, тяжело поводя боками. Волки окружили его, заплясали у самой морды. Голова сохатого закинулась над серой рычащей круговертью, человечий предсмертный крик прозвенел над тайгой.