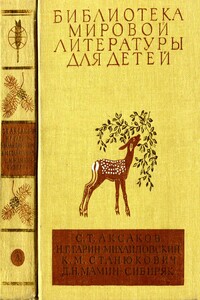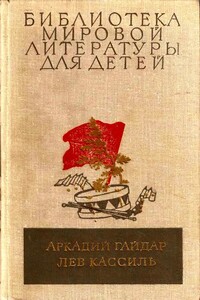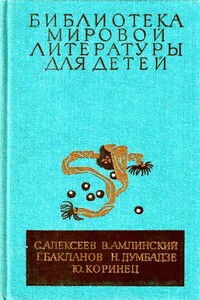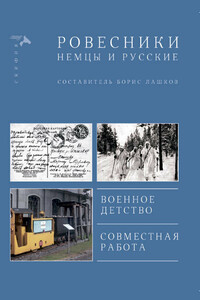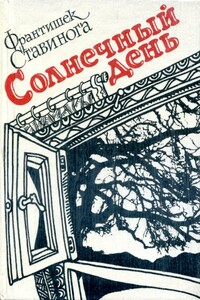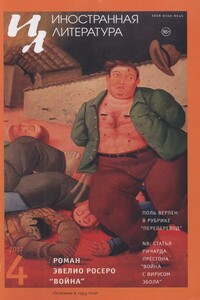Он поднялся по вырубленным в откосе ступеням и на высоте берега, немного охлажденный хлынувшим навстречу морозным ветром, выговорил вслух сквозь зубы:
— Дура, дура! Идиотство!
Вызывая в самом себе брезгливость и ненависть к своему бессилию, к ее глупой боязни, к ее несогласию быть до конца близкой, как тогда, в дни формировки на медпункте, где дежурила она одна, он испытывал к ней почти оскорбительную злость, желание вернуться, мстительно ударить ее. И, презирая себя, он мучился тем, что не в состоянии был подавить в душе недавнее: его руки, его тело имели свою, самостоятельную память — после тех ее прикосновений на медпункте, ее закрытых глаз, дрожащих коленей, робких движений ее гибкого тела эта память почему-то соглашалась сейчас на любую унижающую его нежность, лишь бы только была она…
«Нет, с этим все, все! — зло решал Дроздовский, вспоминая то, что особенно могло возбудить, непрощающе усилить отвращение к ней, — ее большой рот, испуганное выражение лица, слишком маленькую грудь и слишком полные икры, будто плотно вбитые в узкие голенища валенок; он хотел найти в ней то, что оттолкнуло бы его и невозможно было бы примирение. — Да что я нашел в ней? Была бы уж красивой — и этого нет… Ничего нет! Что у нас за идиотские отношения? Все надо прекратить раз и навсегда!» И, разгоряченный, он глубоко дышал; ожигало холодом, пар оседал инеем на ворсе шинели.
Между тем воздух и снег посветлели, приобрели морозную сухость, декабрьские созвездия по вечному своему кругу перестроились, семействами горели царственно ярко, пульсируя в ледяных высотах. А на земле придвинулись ближе крыши станицы, черно выделились; два зарева над ними побледнели, срослись полукругом, заполнили за станицей южную часть неба.
И показалось — на концах этого полукружия ходили по горизонту за балкой, за высотами какие-то светы, какие-то легкие зарницы, похожие на отблески далеких фар. Затем почудилось ему, что ветер принес оттуда смешанные звуки моторов, танковых выхлопов, буксующих колес, — неужели это было движение вошедшей в прорыв немецкой армии?..
Он жадно закурил, сделал глубокую затяжку, вслушиваясь. Ветер гнал, катил поземку по берегу на позиции батареи; вверху колючей проволокой корябались друг о друга ветви голых ветел, тенями мотающиеся на краю речного обрыва. И звуки моторов, невидимого движения исчезли.
«Психоз», — подумал Дроздовский и пошел к наблюдательному пункту — к высотке, видной в редеющем воздухе, где дятлами долбили землю кирки, и лицо его приняло холодное выражение решимости.
На высотке командир взвода управления старшина Голованов, широкогрудый, рослый, устанавливал у бруствера стереотрубу. Первым заприметив в траншее Дроздовского, он с завидной легкостью подбежал к нему, доложил:
— Товарищ лейтенант, только что звонил вам. Санинструктор сказала: вышли! Пять минут назад в район моста прибыл «виллис» командира дивизии. Неспокойно что-то… Дивизионная разведка не прошла еще…
— Почему докладываете так поздно? — произнес Дроздовский гневно. — Почему не позвонили пять минут назад?
— Я звонил, — зарокотал Голованов. — Как раз я звонил. Ваша жена, товарищ лейтенант… то есть санинструктор, ответила…
— Замолчать, Голованов! Спятили, нет? Какая жена?.. — оборвал Дроздовский, отлично поняв прямолинейность Голованова, поняв, почему сейчас трое разведчиков, как глухие, заведенно кидали через бруствер лопатами в соседнем ровике. — Кто это распространяет обо мне слухи? — понизив голос, заговорил Дроздовский. — Вы, Голованов? Или кто? Нет, я все-таки узнаю, старшина!.. Кто приехал из дивизии?
— Три «виллиса», товарищ лейтенант. Один узнал — полковника Деева.
— Все надо знать, разведчик мне тоже!
Размашистым шагом Дроздовский двинулся в направлении орудий, мимо прижавшихся к стенкам траншеи разведчиков с лопатами, а из головы не выходило: «Ваша жена…» — и он, покривясь, подумал, что, вероятно, вся батарея открыто говорит об этом.