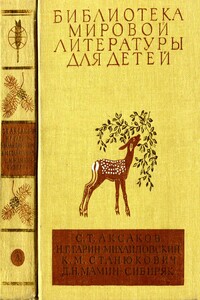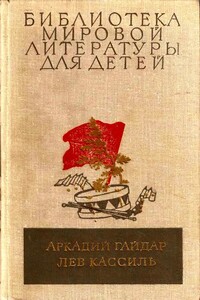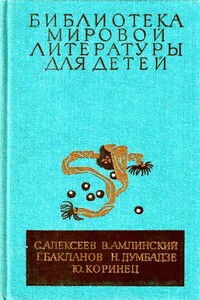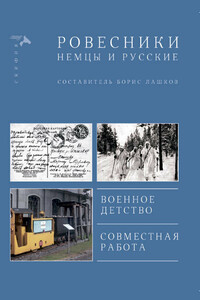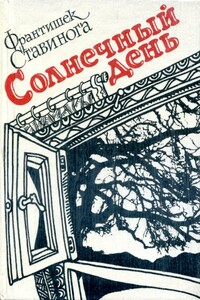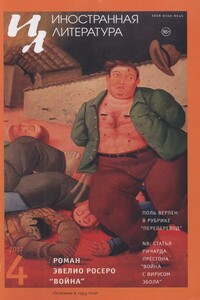Сквозь скрежет лопат он слышал обрывки разговоров о старшине, о кухне, но мысль о еде, об одном запахе пшенной каши была противна ему.
Кухня прибыла в пятом часу ночи, когда вся батарея, вымотавшись вконец на орудийных площадках, уже отрывала землянки в крутом обрыве берега. Кухня остановилась возле огневых второго взвода. Темным пятном проступала она на снегу, пахуче дымила, рдея жарком поддувала. Не слезая с козел, старшина Скорик прокричал наугад: «Кто есть живой?» — но, не получив ответа, соскочил на землю и первым из командиров встретил на огневых лейтенанта Давлатяна. Искоса поглядывая на два мохнатых, разросшихся по горизонту зарева, старшина спросил начальственной скороговоркой:
— Где комбат, товарищ лейтенант?.. Дроздовский нужен. Где он?
— Слушайте, вы… старшина! — заговорил Давлатян, заикаясь в негодовании. — Как вам не стыдно? Вы что, с ума сошли? Где вы были до сих пор? Почему так безобразно запоздали?
— Какой там еще стыд? — огрызнулся Скорик с атакующей надменностью, давно усвоив, что прочность его положения не зависит от командиров взводов, несмотря на их лейтенантские звания. — Чего стыдите-то? Склады у дьявола на рогах, отстали… Пока ездили, пайки, водку получали… Стыдите, ровно один воюете, товарищ лейтенант! Смешно мне это очень слушать. Ровно я пешка какая и фитюлька!
Скорик, бывший командир орудия, единственный в батарее обладатель ценнейшей солдатской медали «За отвагу», полученной в прошлогодних боях под Москвой, и вследствие награды, а также внушительной внешности выдвинутый на формировке в старшины, занял эту должность весьма охотно. Он полагал, что создан для старшинской должности, и в душе считал себя куда выше командиров взводов, в особенности этого щуплого, остроносого Давлатяна, еще не понюхавшего в коротенькой жизни своей пороха, лейтенантика, которого чихом перешибить надвое можно. Лейтенантик этот был ничем не интересен, а тоже петушился, будто вся куриная грудь в орденах, будто на возмущение большое право имел… Да и никто в батарее не имел никакого права попрекнуть чем-либо Скорика, ибо он мог невзначай распахнуть шинель, напоминающе открыть взорам медаль, доставая зажигалку из нагрудного кармана гимнастерки. Только к Дроздовскому, командиру батареи, старшина Скорик относился с неким опасливым уважением.
— Неужели не стыдно, старшина! — повторил Давлатян, растерянный от нагловатого тона Скорика. — Чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? Можете целые сутки торчать где-то в тылу и еще улыбаетесь?
Здесь, на огневых Давлатяна, сейчас никого не было из орудийных расчетов, кроме часового — наводчика Касымова. В темноте несколько раз, словно проверяя, Касымов обошел вокруг нежданно-негаданно появившейся на огневых, пахнущей теплым ароматом варева кухни с затаившимся по-виноватому на козлах поваром — и вдруг, безумно взвизгнув, щелкнув затвором, вскинул на повара карабин:
— Уезжай! Прочь!.. Не наша кухня! Не может наша кухня быть! Ты шайтан! И старшина — шайтан! Уходи! Немец ты! Не советский человек! Люди без крошки хлеба!.. Где, проклятый, спал? Батарея голодный!.. Убью!..
— Касымов! — фальцетом закричал Давлатян. — Что вы делаете?
— Стрелять буду шкуру!..
Лейтенант Кузнецов, заслышав вблизи крики, подбежал к огневой Давлатяна, к стоявшей в синеватой снежной мгле кухне. Тотчас увидел, как лошадь при взмахе карабина Касымова испуганно рванула в степь, поволокла задребезжавший котел, низкорослая фигурка повара мешком скатилась с козел, ткнулась в сугроб; повар жалобно заголосил защищающимся тенорком:
— А?.. Зачем? Умом тронулся?.. — И, вскочив, кинулся к лошади, схватил за повод, приговаривая: — Тпру, дуреха, чтоб тебя!..
— Что произошло, Давлатян? — крикнул Кузнецов. — С какой стати шум подняли? Касымов!..
— Вон видел… приехать изволили, — ответил Давлатян, запинаясь возбужденно. — Понимаешь, Кузнецов, сутки его не было, сутки! Тыловая простокваша!
А Касымов опустился на бруствер и, положив карабин на колени, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил нараспев:
— Плохо, лейтенант, плохо… Не люди они… Такой люди плохо Родину защищать будут. Сознательность нет. Других не любят…