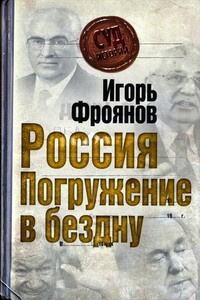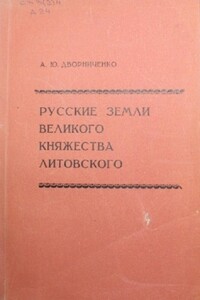Города-государства Древней Руси - страница 26
Этот «грабеж» киевского тысяцкого и сотских живо напоминает сцены из жизни Новгорода, где участники вечевых собраний карали подобным образом новгородских бояр, поддерживавших князей, неугодных массе новгородцев>{93}. Но помимо политического содержания, «грабеж» 1113 г. в Киеве нес на себе еще печать вдохновляемого обычным правом перераспределения частных богатств на коллективной основе, возвращения их в лоно общины, практиковавшегося эпизодически, от случая к случаю в обществах с незавершенным процессом классообразования. Сигналом для этих акций служили нередко изгнание или смерть князя, вызвавшего недовольство у народа своим правлением. Именно таковым и было княжение Святополка, который разными «неправдами» привел в негодование «киян». Горожане, несомненно, сперва подвергли бы грабежу княжеский двор, если бы княгиня, вдова усопшего князя, не предупредила этого, раздавщедрой рукой святополковы богатства: «Много раздили богатьсть во монастырем и попом и убогым, яко дивитися всем людем»>{94}. Отсюда понятно, почему «кияне» начали «грабеж» не с княжеского двора, а с имущества близко стоявшего к Святополку тысяцкого Путяты и связанных с ним сотских. Но «грабеж», как мы знаем, вскоре перекинулся на евреев-ростовщиков, что придает действиям «киян» окраску социальной борьбы, направленной против закабаления, возникающего в условиях формирующегося классового общества>{95}. Следовательно, киевскому «грабежу» 1113 г. нельзя дать однозначную оценку. Перед нами сложное явление, сочетающее различные социальные тенденции, что обусловливалось сложностью древнерусского общества, переживавшего переходный период от доклассового строя к классовому. Вернемся, однако, к сопоставлению наших источников.
Рассказав о «грабеже», летописец затем сообщает о том, что «кияне» снова отправили к Мономаху своих посланцев, тогда как Сказание о Борисе и Глебе упоминает только об одной делегации «киян» к Владимиру Мономаху. И. И. Смирнов считает, что это упоминание следует отнести ко второй поездке киевлян, засвидетельствованной Ипатьевской летописью>{96}. Возможно, он прав, хотя быть уверенным тут, разумеется, нельзя. Но важнее отметить другое: конкретизацию в Сказании состава делегатов сравнительно с Ипатьевской летописью. Если летопись говорит о «киянах» вообще, то Сказание о Борисе и Глебе выражается более определенно: «И тъгда съвъкупивъшеся вси людие, паче же большии и нарочитии мужи, шедъше причьтъм всех людии…»>{97} Слово «причьтъ» (причетъ) здесь фигурирует в значении собрание, собор>{98}. Смысл происшествия становится ясен: с собрания всех людей, т. е. с веча, «большии и нарочитии мужи» отправились к Мономаху, уполномоченные на то «причьтъм всех людий», или вечевой сходкой. Именно так ориентирует нас и В. Н. Татищев. Из первой редакции его «Истории» узнаем, как «кияне» после вечевого решения об избрании Владимира Мономаха на великое княжение, «избравше мужии знаменита», послали их за князем>{99}. Во второй редакции изображена та же ситуация: «Киевляне по всеобсчем избрании на великое княжение Владимира немедля послали к нему знатнейших людей просить, чтоб, пришед, приял престол отца и деда своего»>{100}. Так татищевские известия вместе со Сказанием о Борисе и Глебе дополняют рассказ Ипатьевской летописи о событиях в Киеве 1113 г.>{101} Сведения, извлеченные из этих трех памятников, ставят все на свои места. Оказывается, что «кияне» (социально-нерасчлененная масса жителей Киева и прилегающей к нему области), собравшись на вече, называют Владимира Мономаха своим князем. В посольство к нему вечевая община направила депутацию, составленную из «больших» и «нарочитых» мужей — боярства. В этом нет причин видеть политическую неполноценность или бесправие рядовой массы населения Киева. Такая посольская практика существовала еще в родоплеменном обществе>{102}. Она продолжалась, как увидим, и после изучаемых нами событий, в частности в самом Киеве. Сейчас же следует подчеркнуть активность киевской городской общины в одном из главнейших внутриполитических вопросов волости — замещении княжеского стола. Мономах становится киевским князем по воле народного веча, а не по изволению местной знати, как уверяют нас некоторые исследователи. Киевская община избирает князя, подобно тому, как избирали князей общины других стольных городов. Однако выборность князей в Киеве стала утверждаться несколько ранее, чем, скажем, в Новгороде или Смоленске, зависевших от днепровской столицы и потому вынужденных принимать правителей присылаемых оттуда. И лишь по мере освобождения от власти Киева в этих городах набирал силу принцип выборности князей. В ином, более благоприятном положении был Полоцк, рано обособившийся от Киева. Поэтому формирование в Полоцкой области волостной системы с ее городами-государствами несколько опережало аналогичный процесс в других землях, исключая, естественно, Киевщину