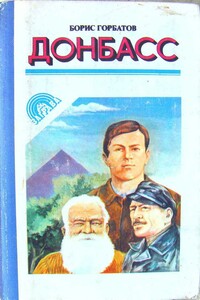4
И снова исчезает кустарник, редколиственные деревья, появляется ель, сосна, даже пихта. Свежеет. Внизу все заволакивается туманом. Подламываются ноги, лошадь тычется мордой в мою спину, торопит. Попадаются отставшие: это подъем.
На повороте возникает командир полка Левушкин. Он в брезентовом плаще, в руке рупор.
— Все? — беспокойно спрашивает он.
— Мы — замыкающие второго эшелона.
— Ага!
И бежит обратно. В который раз?
Бойцы, знакомые и раньше немного с топографией, на этом походе изучали ее ногами. Острили: «Ишь горизонталь какая трудная попалась!»
А «горизонталь» была в самом деле трудная. Подъем местами до 30–35°. Идет боец, с него катит пот, ворот расстегнут, фуражка на затылке, рубаха мокрая, лицо красное, пересохли губы. Штаны тоже мокрые, они прилипают к ногам, преют, дымятся. Сапоги тяжелые, нога в них, как в колодке.
И вот приходит момент, когда «Сидор» становится нестерпимо тяжелым, когда ремни, лямки, шнурки впиваются в тело и режут, и жгут, и пригибают вниз. Скатка становится душной петлей, змеей, обнявшей тело. Говорят, что бывают ноги не свои, деревянные. Неверно. Именно в такой момент больно ощущаешь, что это свои ноги и их боль — своя боль.
Именно в такой момент отстают слабые.
Но сильные Духом только напруживаются, собирают все силы, стискивают зубы, решают: «Дойду». И, решив так, им сразу становится легче. Вся тяжесть снаряжения срастается с человеком — уже не чувствует он порознь всех ремней и лямок, все привычно лежит на теле. Вытрет пот, передохнет и пойдет бодро вперед. И уж не отстанет.
— Ну, теперь и до бога недалеко, — раздается характерный, окающий по-кубански голос комдива. — Еще нажмем, товарищи, и до бога доберемся. Чего он, такой, сякой, немазаный, там делает?
Бойцы улыбаются.
— Уж мы ему пропишем, товарищ командир…
— Ликвидируем как класс…
Комдив идет быстро и как-то легко. Он не покраснел, не вспотел. Будто не про него писал Фурманов, что на нем места живого нет. Да, наш Михаил Прокопьич молодым сто очков вперед даст.
Рядом с ним — комиссар дивизии Рабинович; оба великолепно выносят трудности похода.
— Вот на Перанге водица, — продолжает комдив, — да из-за такой водицы сюда каждый день ходить надо.
— Хороша?
— Я тут как-то был, на Перанге. Вот вы налево все смотрите. Должен родничок быть. Желобок приспособлен — вы обязательно выпейте.
— Есть, товарищ комдив, выпить воды! — весело откликаются бойцы и начинают зорко смотреть влево.
И вот из зарослей рододендрона, из спутанной чащи листвы по покоробленному желобу, сделанному из толстой коры, вырывается, как шашка из ножен, блестящий стремительный родник.
— Вот и водица, — ласково и облегченно говорит впереди меня боец и сворачивает к роднику. Тут уж размеренно и молча толпятся бойцы.
Кишлак близко.
Мы скоро достигаем его. Это несколько дощатых домиков, расположенных на великолепном пастбище. Сюда приходят с огромными стадами.
На Перанге холодно, туманно; моросит дождь. Бойцы кутаются в шинели и льнут к кострам. Сырость и мгла ползут по горе. Сырость берет человека сразу, студит его, корежит — и ни шинель, ни костер не помогают.
Внизу — туман. Иногда он разрывается на миг, и тогда видно окошко на юг: там маячит залитая солнцем долина, вся в пашнях и зелени.
5
Сумерки ползут по горе. Надо торопиться.
Итак, спуск.
— Ну, бегом ма-арш! — весело кричу я Задовскому, но он только головой качает.
Скоро и я стихаю. Крутой, чуть не отвесный и долгий спуск. Осторожно ведем лошадей; они тяжело дышат, испуганно шарахаются в сторону, наступают нам на ноги.
Иногда конь остановится, упрется, не идет. Отдохнет немного и опять, тыкаясь мордой в спину, спотыкаясь на камнях проклятого спуска, оскользаясь и шарахаясь, пойдет в темноту.
Острая жалость к товарищу-коню вспыхивает во мне. Я ни разу не садился на коня сегодня — берег его. Я не мог его накормить.
— Прости, Горный, не было ничего. Оцени мою заботливость — я иду со стороны обрыва, чтобы ты не боялся. Дойдем. Еще немного. Вперед.
Темно… Ничего не видно впереди.
Иногда я кричу:
— Задовский! Карпушенко!
Первый откликается впереди в двух шагах, второй сзади.