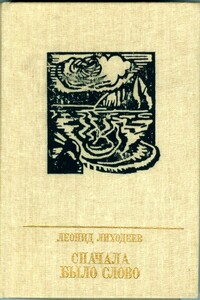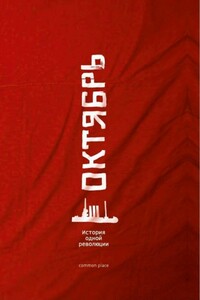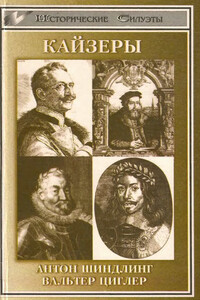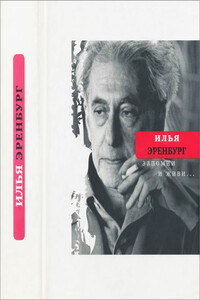Кукута свободна, жители приветствуют победителей.
Конгресс восторженно жалует Боливара званием бригадного генерала и гражданина Новой Гранады. Кастильо с отрядом — ему в подчинение. Армия в 700 человек идет в глубь Венесуэлы, одерживает победы. Будто сам дьявол играет в кости, отдыхая от важных дел: мол, толкну-ка я этого вот Боливара — на тех. Ха-ха! Забавный. Как он их там — ха-ха. Наступает, да, наступает армия. Сдаются селения, и городишки, и гарнизоны испанцев. Не нравятся эти игрушки серьезным и важным офицерам. Кастильо и некоторые другие офицеры уходят в отставку. Сдаются испанцы. Пали Мерида, Трухильо — уже венесуэльские города. Мелькают минуты, цифры побед, маятник движется вверх, задумчиво замедляя бег.
Испанцы — не такой народ, которому все равно, чьи и какого цвета тряпки болтаются на шпиле городской ратуши. Ах, вы так, вы «освободители», вы действительно захотели… ну, а мы — так.
Все чаще на смутном пути — кучки трупов детей, и женщин, и мирных мужчин: землепашцев, проводников, пастухов — с кровавыми глазницами и губами, с отрубленными рукой, ногой. Все чаще — корзины с отрезанными ушами, носами — знай наших, кастильцев, мы уходим, но мы оставляем подарок. Все чаще — ужасные пары недвижных братьев, соединенных не жизнью, не молоком, а смертью: люди, сшитые спинами и брошенные на дороге. Все чаще — колы и виселицы с издали видными беспомощными и вывороченными человеческими силуэтами.
Сами солдаты свободы измучены и сердиты: давно без жалованья, жители деревень смотрят хмуро, разбегаются и не кормят — боятся. Сегодня — «солдаты свободы», завтра — опять кастильцы; и вновь душераздирающие крики, и вновь отрывистые, ужасные хлопки выстрелов, вновь наблюдение с замиранием сердца: где там мелькнул проклятый синий мундир — в соседнем дворе или через улицу? Сейчас придет к нам… придет к нам. О, проклятые освободители из Гранады, чего им, чего им надо. Жизнь беспросветна, но все-таки это жизнь; голод и рабство страшны, но все-таки это жизнь, жизнь. А тут… Придет, ворвется синий мундир, заорет: «Сволочи, бунтовщики!» — хотя они и невинны, вырвет свой пистолет, ржавую от крови шпагу, полоснет от шеи до ребер наискось младшего, Пабло, ткнет железом в живот беременной Анне. А после скажет: хозяин, ты что-то молчишь, я вижу, тебе надоел язык, ты что-то не отвечаешь, я вижу, тебе надоели уши. А, так у тебя и нос что-то длинен. То-то я думаю: отчего он молчит? А он нюхает. И пошло.
Чего надо им — оборванцам Боливара?
Беден удел человека на этой земле. Все мечтания — сон. Человеку не может быть лучше на этой земле — может быть только хуже. И им, этим оборванцам, — им победить солдат короля, этих синих солдат? Нет, нет. Прочь, прочь.
Солдаты свободы роптали и начинали красть, мародерствовать, многие убегали домой, в Гранаду — поближе к прочности.
А испанцы не унимались.
Однажды Боливар остановился в передовом отряде, присел у костра. Был привал. Солдаты сидели, смотрели на вертел с бараном и, судорожно глотая, щурились. Вдруг к Боливару подошел часовой, вертлявый Карулья, и отозвал от огня.
Они отошли; тотчас же душу, глаза охватила та самая крепкая тьма, которая наступает после костра.
— Командир, если хочешь, пойдем со мной.
Сто шагов они продирались сквозь миканию, здешний плющ, и кусты и наконец вышли к крутому обрыву.
Глаза уже забыли костер, стали видеть.
Отряд располагался на возвышении, а там, внизу, под обрывом, не ведая о близости патриотов, что-то выделывала у костра большая группа испанцев. Яркое оранжевое пятно бесилось и прыгало в непрогляднейшей черноте; сверху отчетливо видны колеблемые силуэты людей. Непонятно, что делалось: был кружок, а посредине его один человек ломался в дерганом танце, почти не двигаясь с места, но тем не менее нагибаясь, выкручиваясь всем телом, кружась и подпрыгивая. Слышался хохот.
— Новая пытка, — глухо сказал Карулья. — Мне рассказывали в деревне.
Когда испанцы бежали, преследуемые выстрелами и криками, на месте остались костер и лежащее тело, еще ворочающееся и стонущее. У человека была ободрана кожа с пяток, и в этом кровавом сиропе переливались алмазно-рубиновые сияния: костер еще ластился и трещал над сучками; а рядом зеленым светом блестело рассыпанное стекло в пятнах крови и валялся мешок, из которого его высыпали. Этот человек под дулами пистолетов танцевал на стекле.