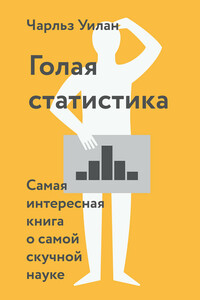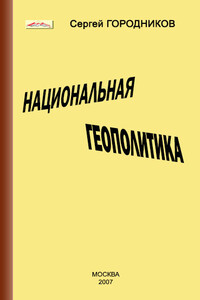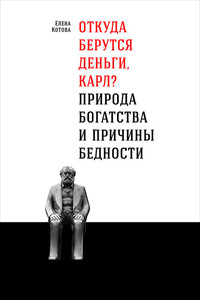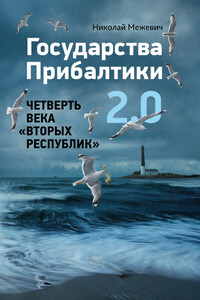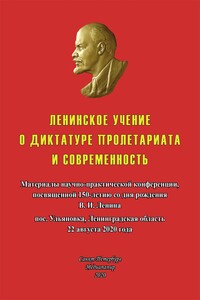А когда пузырь лопается, все начинает идти в противоположном направлении: цены на активы падают, все больше кредитов переходят в разряд безнадежных, кредиторы урезают кредитование, цены на активы снижаются еще сильнее. Финансовые институты сталкиваются с проблемами, что приводит к дальнейшему ограничению кредитования экономики в целом. Это страшное кино мы уже видели: в Японии в 1989 году, в США в 2008-м и в нашей гипотетической идиллической деревне из главы 4. Но есть и другое, менее страшное кино — пузырь второго типа, при котором иррациональный энтузиазм не взаимодействует с финансовой системой на таком глубоком уровне. Например, интернет-пузырь в конце 1990-х годов сопровождался очень ограниченным кредитованием при росте цен на акции. Конечно, оценочная стоимость высокотехнологичных компаний была нелепо завышенной. Да, некоторые фирмочки, которые не заработали ни доллара, стоили на бумаге больше, чем гиганты вроде IBM. А семнадцатилетние хипстеры, занимавшие посты СЕО[608], нередко несли откровенные глупости. («Благодаря технологиям правительство станет ненужным»[609].) Тем не менее, несмотря на весь откровенный идиотизм и безумие, такие пузыри, лопаясь, лишь очень незначительно влияли на экономику, поскольку это не слишком сильно сказывалось на финансовой системе.
Все это предполагает еще одно, третье направление упомянутой выше дискуссии. Хоть регулирующие органы нередко распознают пузырь, только когда становится уже слишком поздно, они, безусловно, способны вовремя выявить дрянные практики кредитования, независимо от того, переоценены активы или нет. Как я уже рассказывал, однажды, году в 2005-м, моему псу предложили предварительно одобренную кредитную карту с пятизначным кредитным лимитом. (Я раньше подписался от его имени — лабрадор по кличке Би Бастер Уилан — на New Yorker, а какой-то эмитент кредитной карты, очевидно, купил список подписчиков.) Это говорит о том, что кредитные рынки в то время полностью вышли из-под контроля. Очевидно, что разразившийся вскоре крах на рынке недвижимости не был бы даже приблизительно столь катастрофическим, если бы финансовые институты не раздавали кредиты собакам в прямом и переносном смысле слова. Бен Бернанке, выступая в 2010 году перед Американской экономической ассоциацией, сказал: «Усиление регулирования и надзора, направленное на решение проблем с андеррайтерскими практиками, и управление рисками кредиторов было бы более эффективным, хирургическим подходом к сдерживанию пузыря на рынке недвижимости, нежели общее повышение процентных ставок»[610].
Итак, мы сделали важный вывод: нельзя выдавать кредитные карты собакам. В связи с этим возникает следующий вопрос.
Правильно ли мы понимаем идею регулирования? В 2005 году в городе Бойсе, Айдахо, ввели запрет на полное оголение в общественных местах, за исключением случаев, когда это требуется в интересах «серьезного художественного выражения». Вскоре после этого городской эротический клуб для мужчин Erotic City Gentlemen’s Club начал проводить так называемые художественные вечера, на которых завсегдатаям, похотливо наслаждавшимся видом полностью обнаженных дам, раздавали карандаши и альбомы. Полиция обвинила клуб в нарушении вышеупомянутого закона (потому что «сотрудники полиции пришли к выводу, что завсегдатаи заведения фокусировались вовсе не на искусстве»)[611]. Тем не менее сообразительностью владельцев клуба нельзя не восхищаться, а регулирующие органы она должна пугать. Суть и природа финансового регулирования заключаются в том, что оно обычно пытается ограничить определенные виды деятельности определенных институтов сотнями страниц юридического текста, посвященного максимально конкретному определению этих видов деятельности и институтов — например, «банк», «кредитование», «серьезное художественное выражение».
В сущности, регулирование финансовой системы сродни компьютерной игре «Ударь крота». Финансисты — люди умные, и подобно нам, остальным, не любят, когда правительство указывает им, что делать или не делать. Когда регулирующие органы пытаются устранить один из факторов уязвимости финансовой системы, они часто открывают дверь для других проблем — например, для роста теневой банковской системы. Как объясняет Бен Бернанке: «Отчасти проблема в том, что все нормативные акты похожи на забор. Все, кто входит в огороженную им категорию, должны “это” делать, а те, кто за забором, от данной обязанности освобождаются. Так что, естественно, всегда будут попытки перескочить через забор. Именно так работают финансовые рынки, и именно так поступают люди»