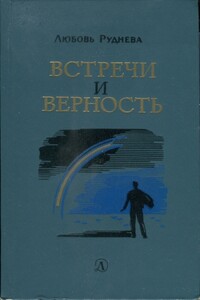Вдруг торговец прикрикнул на него:
— Чего глазенапы вылупил, бесплатно я не шуткую, мотай, малявка! С таких проку нет, без родителев-то ничего не покупишь.
Амо быстро взглянул в последний раз на прилавок, почувствовав себя, может, впервые, трусом, оставляющим друга в беде, увидел беспомощную спинку — балахон заморщинился у загривка, колпачок жалобно свесился набок, вот и все, что успел заметить охотник, но не покупатель.
— Взялся за перепродажу чепухи, — меж тем орал уже своему соседу, торговцу горшочками, толстопальцый. — Ведь говорил же рукоделу: игрушку не уважаю, с нею коммерцию не поддержишь. А он сулил барыш, обманул. Ерунда чепуху и стоит, а тут на нее зарится голытьба да мелюзга.
Ушел Амо посрамленный, но призадумался. Тот Петрушка, что выпрыгивал из-за ширмы, наверняка не знал поражений, а этот, махонький, попал в переделку.
С трудом Амо уяснил, что Петрушка Петрушке рознь, а для игры нужны добрые, чуткие руки и никак для того не подходили жирные, короткие пальцы.
Брел понурясь, не спеша домой, поднимал то одну ладошку и подносил ее к лицу, то другую и, рассматривая свои пальцы, шевелил ими, будто видел впервые.
По дороге он встретил соседскую дворняжку, она дружелюбно ткнулась ему в живот мордой, на минуту припала к земле, завалясь на бок, предлагая почесать ей брюшко.
Присел на корточки, не в силах устоять против ее дворняжьего дружелюбия, и поглаживал песочную гладкую шерстку.
И в этот момент он догадался: из старой, драной занавески смастерит себе балахон Петрушки, натянет его на себя, кликнет доброго песика, что сейчас так ласкается к нему, и вместе с Шукшей пойдет не на базар, где всем торгуют и настоящие цыгане бьют маленьких куклят, прячущихся за ширмой, а по дворам. Он, Петрушка-Амо, понарошку будет ссориться с Шукшей, она начнет лаять, все подумают: она по-собачьи отвечает Петрушке. Еще сделает себе Амо свистелку-дудочку из бузины, возьмет маленькую сковородку на кухне у матери и станет то свистеть, то бить в сковородку, созывая народ, — кто взглянет на него, засмеется.
Лаская теперь Шукшу, Амо спрашивал у нее:
— Если стану Петрушкой, ты-то пойдешь со мной? Еще нам надо достать колпачок с бубенчиком, нет-нет, с кисточкой я не хочу, только с бубенчиком. И про себя же, Петрушку, кричать буду: «Сам ходит, сам бродит! Шумит, смеется, с цыганом дерется!» А почему тебе не взобраться на ширму? Ты ж мне подсобишь. Только рвать мои штаны взаправду не вздумай! У меня других-то нет. У того, базарного Петрушки дядька-кукольник мог и балахончик сменить, и зашить чего надобно, а я, Шукша, не сумею.
— Послушай, — говорил Амо, почесывая собакино пузо, — вот попугай какой маленький и клювастый, а может по-человечьи голос подать. А ты ж, большой и понятливый, отчего-то ленишься. Ты ж очень понравишься всем-всем, если вдруг хоть одно словечко скажешь: «Петрушка!» Ну давай попробуем вместе, не торопясь. А? Если чего очень захочешь, обязательно получится. Вот увидишь.
Амо выпрямился и пошел, собака увязалась за ним, а он все прикидывал свой будущий праздник.
Намалюет себе щеки желтым, отварит кожуру лука, как мать на пасху, когда яйца красила. И покрасит не только щеки, но и кончик носа, лоб. Будет потеха. Ну, а слова для выкрикивания он возьмет у Петрушки-рыночного самые презабавные. Вот Петрушка наклоняется над ларем с мукой, крупой, достает оттуда двумя ручками и сыплет добро прямо на глазах зрителей обратно в ларь. Визжит, сильно откачнувшись назад, трясет головой, да так, что бубенчик заливается во всю ивановскую. Он, видимо, и боится, и сердится: а вдруг кто ненароком на него и наскочит да пуганет!
Но Петрушка не таков, чтоб праздновать труса. И он враз, схватив свои тарелочки, колошматит ими над ларем, выкрикивая: «Из дробленого, толченого чертенята лезут! Рожи строят, рожками пинаются, копытцами дробно выстукивают. Языки высовывают. А ты на них, Петрушка, махни рукой, повернись спиной, кукарекни сильно, дыхни шумно, оборотись лицом, крикни: «Сгинь! Сгинь рог! Скинь два! Потеряй рога! Сбрось копытца, побеги топиться!» И нечисть исчезнет.