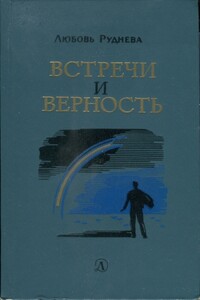Андрей уже от крыльца окликнул Наташу и, извинившись перед Аятичем, сказал:
— Ничего не поделаешь, я должен вернуться к работе.
— Идите, голуба, пашите свою целину, русский человек работящий. А вот, между прочим, у нас с вами сходствуют глаза, с косым маленько разрезом. А нет ли в вашем роду, как и в моем, очистительной крапинки чуди? А? Догадался. Откуда ваши родители род ведут?
— Из Сибири, — ответил Андрей, поспешно открывая дверь.
И уже вдогонку ему Аятич возгласил:
— У меня глаз охотника и стрелка! Да, я вижу — вы настоящего заводу, так что, — он обернулся к Наташе, она стояла все еще на своей боковой дорожке, не зная, как прервать краснобайство Аятича, — так что ходатайствую перед вами, Зегзица наша, — искусство у нас одно, а вот проводничков многовато. Зачем ученому с громким именем блажить, толковать о таких вот чужого заводу Пикассо?
Наташа пожала плечами и тихо ответила:
— Вы весьма суровы, а день светлый и солнце уже весеннее, и мне пора работать, уж простите нас.
Она улыбнулась и прошла мимо Аятича.
— Не беспокойтесь, калитку я аккуратно прикрою. Только насчет моих хором не забудьте, все ж лишний глаз присмотрит — все целее будет, соседушка. А как у меня опять случится выставка, ждите приглашения, уважу, как не уважить, ваш-то муж, по всему видно, гордость отечественной науки!
…Вечером заехал Гибаров. Он собирался в Прагу на гастроли и к своей Ярославе.
Еще не позвонив у калитки, он слепил снежное подобие клоуна, натянул на него заранее приготовленный колпак, сунул в снежную культяпку прутик с треугольным синим флажком и прочертил на брюшке серпик луны.
Выслушав живописный рассказ Наташи об Аятиче, он воздел руки к закопченному кухонному потолку и произнес заклятье:
— Уже год прошу вас, познакомьте меня с Аятичем. Он же готовый, распрекрасный типаж! Вроде б он и абсурден, но вполне благополучно развивается, весьма благоразумные люди вступают с ним в серьезные, деловые отношения. Ну просто потому, что они не обладают живым воображением, сами боятся перешагнуть за порожек общепринятого.
Амо важно прошелся вокруг стола, посмотрел рыбьим глазом сперва на Наташу, потом на Андрея и уронил баском, как из бочки ухнул:
— Ну что, Зегзица! Понимать надо, а не хмыкать, коль скоро я, сиречь Аятич, кем-то утвержден в созидателях, ваятелях и прочее. Кто в силах отменить шкалу ценностей, по которой я прохожу?! Русалка наша ненаглядная!
Амо махнул рукой, уселся за стол и добавил:
— Он тяжеловес, но прыток. По-своему убедителен, в нем есть некая ощутимая весомость. Он весь до деталей прописан, надежен. В него можно, как в сберкассу, сделать вклад: надежно, выгодно и удобно. И его, конечно, подпирают такие же вот тяжелодубы критики, ну, и собратья подобного ж образца — он уже клан!
Амо вновь вскочил на ноги и направился к дверям тяжелым шагом. Его жесты, поступь, присутуленная, отяжелевшая спина напоминали соседа, чья манера обхождения еще днем представлялась Андрею и Наташе неповторными.
— Охохонюшки, хо-хо! Я б, разъярив жалкого мима-клоунишку, разметал бы его, как карточный домик, одним мановеньицем своей каменной десницы. Наш великий поэт, провидя мое появление в двадцатом веке, воскликнул: «О, тяжело пожатье каменной его десницы!»
Андрей и Наташа, смеясь, аплодировали. Амо оседлал стул, наклонился к Наташе и сказал просительно:
— Устройте встречу, мне ж не везет, он, как на грех, когда я тут, глаз не кажет. Пожертвуйте одним вечером ради меня, пригласите, как вернусь я из поездки, и его. Ну что вам стоит? А сейчас, как вы давно еще просили, я вам покажу кое-что из своих заготовок: «Художник и модель». Ну, вы-то знаете, это излюбленный мотив самих живописцев и графиков. Не буду тут громыхать именами, чтобы не усложнять своей скромной задачи. Только перейдем в большую комнату.
Он сдвинул к стене стол, огладил воображаемые усы и бороду, подготовил мольберт, кисть и палитру — привычки профессии живописца и легкое шаржирование переплетались тут сами собою.
Но вот он сделал шаг в сторону, и перед зрителем как бы явилась партнерша, молоденькая Грация. Гибаров мгновенно перевоплощался.