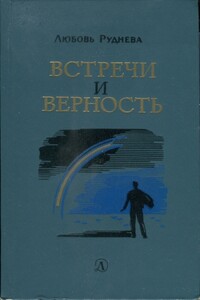Сейчас он склонен был подтрунивать над собой, приметив свое несколько парящее надо всем привычным состояние. Не так уж часто, особенно в последнее время, мог он позволить себе находиться в таком «свободном полете». «Ах, да, — сыронизировал он в собственный адрес, — разве можно забыть подчистую свою собственную профессию давних времен — летчика…»
А на Невском меж тем хозяйничали раздобревшие на городских харчах голуби и, будто не замечая их, по мостовой сновали вороны. Вдруг появилась маленькая, щупленькая дворничиха в широком темном мужском пальто и в вязаной синей шапке с помпоном, она воинственно размахивала метлой, идя навстречу одинокому путнику, будто собираясь заодно с мусором смести и его.
Андрей поздоровался с ней, чуть ли не подмигнув метле, мгновенно вспомнив о всех возможных ее превращениях на манеже в руках Амо. В одиночестве не проживешь даже вдали от друзей, что-нибудь да напомнит об их присутствии.
Но, видимо сочтя гримасу встречного высокого мужчины в спортивной куртке за признак легкомыслия, хмурая женщина только осуждающе покрутила головой, на миг приостановившись. Андрей прошел мимо нее, радуясь утренней тишине и остающемуся позади шорку метлы.
Он знал уже, как, войдя в номер, вскоре обязательно услышит по телефону мягкий, низкий голос Никиты Рощина. И тут Андрей подумал о том, что он, Рощин, сильно смахивает не только наружностью своей, но и некоторыми чертами характера на Дирка Хорена. Сходство это Андрей заметил давно и сразу, как только перед первой их совместной экспедицией свел знакомство с ленинградским ученым, но тогда этому не придал значения. А теперь, когда Дирка не стало, оно, это сходство, проступило отчетливее и как-то беспокоило: и притягивало больше к личности Никиты Рощина, но и вызывало острую тоску.
Было в нем то же сочетание будто бы несколько небрежного отношения к своему облику и неуловимое изящества в манере одеваться, даже в жесте. Тот же скрытый юмор, внезапно, почти всегда неожиданно обнаруживавший себя. Отличало его, как и Дирка, пристрастие к кропотливой лабораторной работе и желание участвовать в экспериментах в океане, интерес к исследованиям в смежных областях океанологии, в любой момент из доктора наук он и превращался в жадного ученика… Но Хорена-то ему, Андрею, никогда больше не услышать, не увидеть.
И теперь безотчетно стал напевать он едва слышно невесть когда полюбившиеся строфы «Элегии». Но ведь и Наташа не слыхала, чтобы Андрей, даже забывшись, напевал. Он многого еще стеснялся в себе, — может, оттого, что мальчишкой был застигнут войной, а не изжитое в юности не оставляло, вдруг и вырывалось наружу. Лишь возвращение к давним друзьям, заочные свидания с ними, какие разрешал себе порой, вызывали иной раз желание словом, мелодией коснуться заветного. Случалось такое во время одиноких прогулок.
Он шел по самой людной улице в совершенном безлюдье, медленно, чуть укорачивая шаг, и сам вслушивался в слова — обретали они как будто и не известное ему доселе значение.
Зачем вы начертались так
На памяти моей,
Единой молодости знак,
Вы, песни прошлых дней!
Я горько долы и леса
И милой взгляд забыл, —
Зачем же ваши голоса
Мне слух мой сохранил!
Забавно все ж, однажды Андрей пел в присутствии друга. И Дирк, не понимая слов, пытался подпевать. Андрей чуть перехватил на радостях за ужином в его староголландском домишке, но и загрустил, тут и вспомнил заветное Дельвигово:
Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить,
Когда желанья и мечты
К тебе теснились жить,
Когда еще я не пил слез
Из чаши бытия, —
Зачем тогда, в венке из роз,
К теням не отбыл я!
Но Дирку понравилась мелодия и даже вовсе непонятные русские слова, а еще больше, что его сдержанный, «с северными глазами» приятель раскололся. И не хотел верить, когда назавтра сконфуженный Шерохов уверял, мол, он из породы не поющих, а тем более исповедальные сантименты ему не по нутру. А пользоваться стихами, чтобы излить свою печаль, и не в его духе. Андрей что-то городил, наговаривая на себя, и Дирк уверил, что никогда и не будет просить его повторять на «бис» даже самые отличные стихи или песни. Исповедоваться же с помощью хорошей поэзии теперь, пожалуй, и старомодно, хотя зато несомненно, с точки зрения его, Дирка, прекрасно. Но вольному воля…