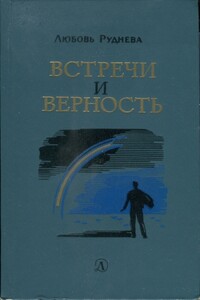Тут же Гибаров в сердцах высоко поднял над собой блестящую эту штуковину, и все зрители с удивлением посмотрели вверх, вроде б микрофон вознесся поближе к солнцу. Амо встал на шнур, а сняв ногу, показал, вот, мол, действует, и громко вздохнул в микрофон. Тот покорно передал вздох как великаний.
Снова поза оратора, поток слов, и опять микрофон онемел. Тогда обескураженный болтун приложил микрофон жестом, полным отчаянья, к сердцу, и по всему цирку зазвучало его биение.
Ветлин заметил, как артист почти неприметно пальцами пощелкивал по микрофону.
Что-то осенило Амо, и тут же он подскочил к инспектору манежа и приложил микрофон уже к его сердцу, а сам положил голову на грудь человека во фраке. И вот по цирку разнесся звук глухой и редкий: бум, бум, бум…
В отчаянии отскочив, ошарашенно смотрел на инспектора Гибаров. Снова микрофон превращен в стетоскоп, инспектор отирает ослепительно белым огромным платком пот со своего лба, Гибаров перехватывает платок, утирает свое лицо, шею, обмахивается, потом тщательно вытирает им микрофон, вновь вслушивается в сердце пациента, оно бьется с еще большими паузами и совсем останавливается.
Смятенный артист прикладывает микрофон к другой стороне груди инспектора, к его животу, лбу, пяткам, в отчаянии покачивает головой и начинает плакать.
Но инспектор отбирает у него микрофон, сам прикладывает его к левой стороне своей груди, и весь цирк наполняется ритмичным биением. Гибаров подтанцовывает в восторге.
И в это самое время хлынул дождь, не цирковой, а обильный приморский, вполне натуральный.
Через брезент потоки воды полились на зрителей. Но никто не ушел, все перебрались, теснясь, на сухую сторону.
Вода заливала и манеж. Суетились униформисты, и отчаянно жестикулировал инспектор манежа, понятно стало — следующий номер, с подготовленным для него громоздким реквизитом, не состоится. Тогда, на минуту отлучившись с манежа, Амо вернулся, торжествующе неся в руках раскрытый, но, увы, рваный зонт, видимо найденный им в костюмерной.
В его руках зонт казался существом живым, самостоятельным. Он на мгновение умудрялся обгонять Амо, выскальзывая из его рук, но тут же послушно возвращался.
Гибаров сунул ладошку в дыру над головой — в отверстие купола зонта — и пригрозил кулаком не унимавшемуся дождю.
Зал разразился аплодисментами.
Неожиданно Амо повел себя как в ду́ше, он достал из кармана мыло и поверх своей одежонки намыливался, споласкивал шарфик, до того повязанный на его горле, яростно промывал волосы, приглашая жестом публику последовать его воинственно-очистительному примеру.
На манеже образовалась большая лужа, униформисты пытались вычерпать ее ведерками разных размеров, Гибаров пустился на изобретательство, тут в ход пошла его шляпа, как черпак, и выяснилось — в ней есть отверстие, и зал это отметил дружным хохотом.
Неожиданно Амо стал кататься по луже, как по льду, движения его были ритмичны и легки, создавалась иллюзия — перед зрителями мальчишка-конькобежец, но он шлепнулся, поднялся, и вновь ноги разъехались. Каскады шли один за другим, будто то была не импровизация, а отработанный номер.
Теперь Амо принялся плавать, и отлично — кролем, хотя лужу почти уже вычерпали. Подоспел униформист, он поднял пловца на руки.
Тот что-то шепнул ему на ухо, и вот униформист перебросил гибкого артиста с одной руки на другую, сделал движение, словно выкручивал огромную вещь, выжал ее и, закинув Амо за плечо, ушел, крупно и уверенно шагая со своей болтающейся на спине ношей.
Такой подарок преподнесли зрителям проливной дождь и артист-импровизатор.
После окончания программы Ветлин, забыв свой солидный возраст, устремился за кулисы, чтобы выразить Гибарову признательность.
Тот обрадовался, услыхав, что капитан Ветлин видел его на манеже.
— Мне ж столько говорил о вас Шерохов, и вот неожиданно вы мой зритель. Я иной раз очень везучий, — улыбался Амо.
— Нет-нет, нынче вечером везучее я, — отшучивался Ветлин, — вы сняли с моих плеч сразу тонну шлака. Уверяю вас. Таковы мои обстоятельства. На представление в цирк пришел сегодня заправский грузчик, а к вам в артистическую уборную заявился ну почти канатоходец, уж такое сейчас мое состояние — на грани эквилибристики, — он усмехнулся.