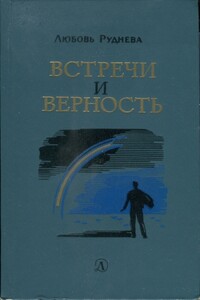«Андрей, пишу Вам с признательностью. Знаю, сколько ж порогов перешагнули Вы и Урванцев, чтоб спасти мое доброе имя, вернее, восстановить его. Теперь, когда отстранен я от капитанства, — кто б мог подумать, что постигнет меня такое, — нахожусь в подвешенном состоянии — уймища времени на размышления. Заглядываю в самые дальние уголки памяти, в какие, оказывается, и вовсе никогда не забредал, захваченный бешеным движением и конкретными целями, или мимоходом только бросал взгляд, под настроением.
Вы, Рей, часто посмеивались надо мною, правда, не без сочувствия, что порой я склонен был к литературным, конечно же тайным упражнениям. Грешу стихами, раза четыре-пять в год, длинными посланиями. Теперь тяготение к непритязательной эссеистике меня спасает. Признаюсь, я только сейчас ощутил какую-то полноту духовной зрелости, что ли. Со стороны могло б такое показаться даже забавным, но Вы ж не сторонний наблюдатель…
Подробно обо всем пишу отцу, он — первая жертва несправедливых обвинений, предъявленных мне. Боюсь, буквально жертва. В восемьдесят лет, при его-то темпераменте, непосредственности, чувстве справедливого — оно владеет им сызмальства, — такой удар!
Сын подсуден, якобы повинен в смерти человека, находившегося в расцвете лет. Чего греха таить, отец гордился мной больше, чем младшим братом, — романтичной натуре казалось ближе моя профессия, да и сыновья влюбленность в его неугомонный дух.
Но сам он и раздвинул мои горизонты, а его огромная библиотека пришлась мне по нраву и вкусу с юных лет, его вхождение в Петровскую эпоху было мне далеко не безразлично, и он не раз говорил друзьям, какую имеет счастливую возможность писать сыну о том, что занимает его, порой мучает, и получать письма из разных широт.
Вовсе не хвастливый по натуре, гордился мной, даже милями, мною исхожденными, и вдруг чуть ли не первым он узнает, так услужливы иные людишки, его сын якобы совершил тяжкое профессиональное преступление, п о в и н е н…
Я тревожусь за него, как бы ему-то в первую голову не расплатиться за эту версийку-диверсийку! Скажу Вам по чести. Когда кто-то падает рядом, всегда невольно предъявляешь счет себе, оставшемуся в живых. Уже просто потому, что — живешь. Но в этом случае, в Индийском океане, мною владела горькая, удивленная обида: как дешево, по-пустому, даже не из лихачества, и вовсе не из запоздалого мальчишества, а, по всему судя, из увлечения своей престижностью, три великовозрастных, достаточно практичных мужика, проявив недозволенное панибратство, влезли в игру со смертью.
Увы, дешевка в устремлениях, в быту, незатейливый стимул «ухватить свое» подтолкнул их на опрометчивое, самовольное, опять-таки не из сильных свойств натуры, желание: выйти на плоскодонной лодчонке в открытый океан. «Уж кому-кому, а нам-то можно пренебречь общепринятым: мы из удачливой породы», — говорили они нашим ребятам из экипажа.
Вы знаете, как раз им-то, нашим морякам, не занимать стать решительности в трудных случаях, они и гребут всегда в лад с товарищами, понимают: хорошая общность помогает и себя чувствовать не показными молодцами. Да про это меж ними и трёпа нет, пустословия в трудный час за ними не водится.
Но, возвращаясь к той ночи, когда двое, ей-богу, чудом выловленные, почти проговорились, мы переделикатничали, пожалели чуть было не отдавших черту душу, недорасспросили их.
Страшное-то надо немедля выяснять и до конца, а мы впали в состояние сиделок, хотя чуяли — произошла двойная беда, одна другой похлеще.
Я не барышня, но, внезапно просыпаясь ночью, как бы слышу голос Семыкина, хотя его признания услыхал-то доктор, а не я: «Я почувствовал, Юрченко и в жилете пузыри пустит. Какой там бачок, жилет!»
А наутро он же, Семыкин, винил врача, будто тот замачивал его в спиртном, подсовывал, мол, свои детективные версии.
«Я тертый калач, меня даже дошлой девке не съесть», — говорил мне Семыкин, когда следователь нас свел.
«Плавсредства не сработали, а это на совести капитана, оно бройся не бройся, а рыльце в пушку и проступает…»
Весьма выразительная разговорная речь у этого персонажа, в отличие от стиля его же бюрократических реляций.