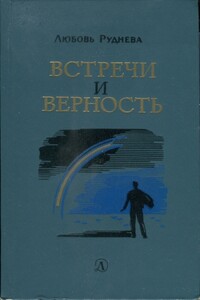Я уже до тебя обожглась, по-другому, правда, но все же опыт.
Меня, конечно, после загульного Жорки потянуло в твою сторону — идеалы, собранность, широкий спектр интересов. Но есть же практическая сторона жизни, тут рюкзачком не обойдешься…
Ты, наверно, не узнаешь свою Нинку? Тем легче тебе будет перезимовать без меня.
Я училась у тебя сдержанности, вкрадчивости, или еще как там, обходилась даже на короткий срок без педалей, но сколько можно химерить, если в том толку мало?!
Ну, а полной откровенности меж нами никогда и не было, она тебе только мерещилась с моей стороны.
Кстати, ты судишь о многом, исходя из своих свойств, а так ли уж они обязательны в наше время? Может, у тебя и образцы устарели, хотя ты весь самостоятельный, но все чему-то учишься!
Смотрю я: за Ветлина дорогой ценой ты платишь, ох дорогой!
Ты не любишь вслух толков об интимном, но я не старая дева и не слишком ли уж слишком после рейса не рвануть было в Москву?!
Я и не понимаю тебя вовсе, да и уволь меня от такой доли, — не Пенелопочка ж я, а ты, миленький, не Одиссей, да и тот даже в твоем наверняка очистительном пересказе, видно, жох был мужичонко, ох, не терялся с бабами… Ну, да шутки в сторону, как любителю всякого народного, говорю тебе — так и знай, от моих ворот тебе поворот!..»
Он знал руку Нины и отчетливо понимал — письмо адресовано ему, читал его слово за словом, строку за строкой. Во рту пересохло, потом появилась оскомина. Не вовремя и непривычно сердце будто бы пустилось в пляс, как случалось перед началом горьких мальчишеских драк с сильными взрослыми, пьяноватыми буянами. Они норовили отыграться на зеленых подростках, если те, как со Славой случалось не раз, пытались поднять какого алкаша, развести в стороны сцепившуюся драчливую компанию. Тогда-то начиналась потасовка, где надо было и себя отстоять.
Но от несправедливости взрослых сердце еще в ту по начинало барабанить тревогу.
Слава после чтения первых страниц попробовал отложить хоть на минуту-другую письмо в сторону. Ему причудилось — он вроде б маленько и свихнулся, мерещь какая-то на него напала.
Ему ж письмо адресовано, и от Нины оно, судя по почерку и по смыслу, но одно с другим никак не сходилось. Не узнавал ее интонации, слов, той плавности влюбленного говорка с прожилочками лукавства, тех окликов, что приносили ему уверенность, приманивали.
Он озирался в гостиничном номере, будто впервые в него и попал. Самому себе казался сейчас огрузневшим, староватым, каким-то иным существом, малознакомым.
Чтоб принять на себя ярость, неожиданно беззастенчивую, он вроде б должен был и сам обрести какую-то другую повадку.
Если б только дальше не читать, не сидеть тут, держа в руках эти чуть глянцевые листы, да еще с корабликом, отпечатанным радужно вверху первой страницы, в левом краю ее.
Если б мог он условиться с провидением, в которое и не верил, чтоб убралось письмо в конверт, а конверт ни единая рука ему не вручила б.
Забыть бы, смыть все, что смяли, исказили слова.
Но строчки вроде б угорели в балаганном плясе, куражились, пустившись во все тяжкие, какие-то словечки. И одно совсем бесстыдно вопило, попав на белое поле последней страницы, — «простофиля!».
Наконец, отбросив письмо, он обхватил голову, требуя от нее немыслимого — немедля оборвать верчение чужих словес…
Но жгло лицо, глаза, и он понял, что плачет. Такого с ним не случалось с отцовой смерти.
Столько толковали о горящем факеле, что пылал он уже под веками не только обвиненного капитана, но и у всех, кого несчетное число раз вызывали свидетельствовать.
— Не мог знать наш капитан заведомо о местонахождении лодки «Прогресс», — говорил следователю старпом Журавский, поблескивая монголоидными глазами. — Ведь она очутилась в открытом океане по своевольству начальника отряда. А он рабски послушался несведущих своих помощников. Потому капитан и не мог в открытом, повторяю, океане принять горящий факел неизвестного происхождения, — старпом вычеканил эти слова, — за сигнал бедствия с «Прогресса».
И опять, и опять твердили старпом и другие штурманы: возвратясь на борт «Александра Иванова» в восемнадцать сорок и узнав, что лодка еще не швартовалась, капитан все возможное, да, пожалуй, почти невозможное, сделал.