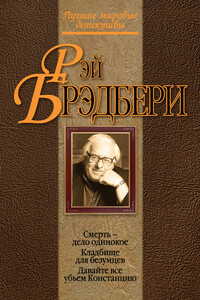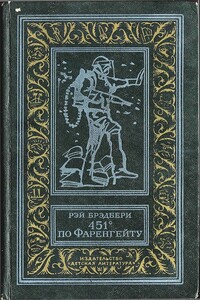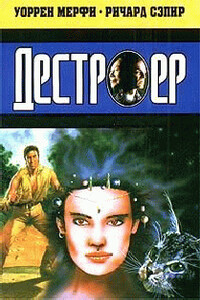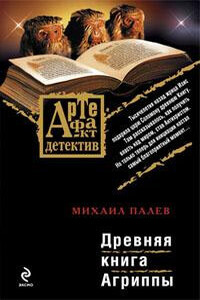Я перебирал обрывки, размышляя, могла ли Констанция написать Хопвуду? Нет, не могла. Она сказала бы мне.
Эту записку неделю назад отправил Хопвуду кто-то другой. И Хопвуд, как жеребец, гарцевал по берегу и ждал в волнах прибоя, не выбежит ли к нему смеющаяся Констанция. Может, он устал дожидаться, утащил ее в море и утопил? Нет, нет. Наверно, он видел, как она нырнула и не вынырнула. Испугался, бросился домой, и что он там нашел? Эту записку, полную страшных слов и унизительных разоблачений, – он будто получил удар ниже пояса. Ему ничего не оставалось, как бежать из города. Его гнали две причины – страх и боязнь позора.
Посмотрев на телефон, я вздохнул. Нет смысла звонить Крамли. Нет corpus delicti. Только рваные листки, которые я рассовал по карманам. Они казались крылышками москитов – хрупких, но ядовитых.
«Расплавьте все ружья! – подумал я. – Переломайте ножи, сожгите гильотины, но и тогда злобные душонки будут писать письма, способные убивать».
Рядом с телефоном я заметил маленький флакон одеколона и, вспомнив слепого Генри, его память и его чуткий нос, забрал флакончик с собой.
Внизу все крутилась в молчании карусель, лошади по-прежнему прыгали через невидимые барьеры, стремясь к финишу, достигнуть которого им не было суждено.
Я взглянул на пьяного хозяина, сидевшего в кассе, как в гробу, содрогнулся и при полном отсутствии какой-либо музыки поспешил убраться восвояси.
Чудо случилось сразу после ланча.
Из журнала «Америкэн Меркурий» пришло заказное письмо, в котором спрашивали: соглашусь ли я продать им один из моих рассказов, если они пришлют мне чек на триста долларов?
– Соглашусь ли? – взревел я. – Господи помилуй! Да они спятили?
Я высунулся на пустую улицу и заорал, обращаясь к домам, к небу, к берегу.
– Мой рассказ купил «Америкэн Меркурий»! За триста баксов! Теперь я богач!
Я перебежал дорогу, чтобы показать письмо ярким стеклянным глазкам в маленьком окошке напротив.
– Смотрите! – кричал я. – Как вам это нравится? Смотрите!
– Я богач! – бормотал я, пока, задыхаясь, бежал к винному магазину, чтобы сунуть письмо под нос хозяину.
«Смотрите!» Я вертел письмом над головой в трамвайной кассе.
«Хей!» – и вдруг застыл как вкопанный. Оказалось, я успел добежать до банка, воображая, будто чек уже у меня в кармане, и готов был положить на счет это всполошившее меня письмо.
А дома я неожиданно вспомнил тот страшный сон.
Чудовище, которое явилось, чтобы схватить и съесть меня.
Идиот! Дурак! Разве можно было кричать «хороший рис», надо было кричать «плохой»!
В эту ночь, впервые за долгое время, дождь не смочил коврик у моей двери, никто ко мне не приходил, и на рассвете на тротуаре возле дома не оказалось водорослей.
Видимо, моя открытость, мои истошные вопли спугнули того, кто ко мне наведывался.
«Все страньше и страньше»[149], – подумал я.
Похорон на следующий день не было, ведь не было покойной, состоялась только панихида по Констанции Раттиган, организованная, видимо, фанатами, гоняющимися за автографами и фотографиями артистов, – их крысиная шайка вместе с толпой киностатистов перемешивала ногами песок перед арабским фортом Констанции Раттиган.
Я стоял в отдалении от этой толчеи и наблюдал, как несколько престарелых спасателей, обливаясь потом, протащили по пляжу переносной орган и установили его, забыв принести стул для леди, которая играла на нем, играла плохо, да еще и стоя. На ее лбу блестели соленые капли, она дергала головой, управляя траурным хором, чайки слетались посмотреть, что происходит, и, поняв, что кормом не пахнет, взмывали вверх, а какой-то подставной священник тявкал и лаял, словно пудель, так что перепуганные птички-песочники разбегались в разные стороны, а крабы поглубже прятались в песок, я же скрипел зубами, не зная, орать мне от ярости или залиться демоническим смехом, наблюдая, как с ночного экрана мистера Формтеня, а может быть, из полночной глубины под пирсом одна за другой появляются какие-то гротескные фигуры, ковыляют к волнам прибоя и кидают в них привядшие цветочные гирлянды.
«Черт тебя побери, Констанция! – думал я. – Приплыла бы ты сейчас! Прекратила бы это идиотское шоу!»