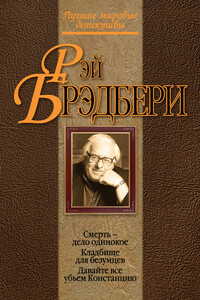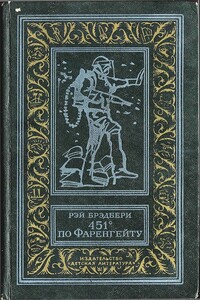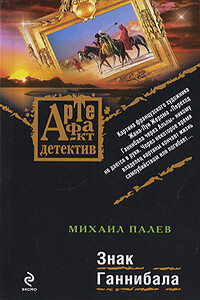– И ты думаешь, она может в достаточной мере чувствовать, ощущать, знать и помнить? А вдруг мы только усугубим ее безумие?
– Господи, да откуда я знаю! Это последняя наша зацепка. Никто другой не станет с нами откровенничать. Половину истории тебе рассказала Констанция, еще четверть – Фриц, есть еще священник. Это головоломка, а Эмили – рамка, внутри которой нужно собрать все части. Зажгите свечи, воскурите ладан. Пусть зазвонит алтарный колокол. Может быть, она очнется после семи тысяч дней молчания и заговорит.
Целую минуту Крамли молча сидел, медленно и тяжело потягивая пиво. Затем он наклонился вперед и произнес:
– Ну что, пойдем вытащим ее?
Мы не привели Эмили Слоун в церковь.
Мы привели церковь к Эмили Слоун.
Констанция все устроила.
Мы с Крамли принесли свечи, ладан и медный колокол, сделанный в Индии. Затем расставили и зажгли свечи в одной из полутемных комнат санатория «Елисейские Поля» в Холлихок-хаусе. Я приколол на колени булавками несколько кусков хлопчатобумажной ткани.
– А это еще зачем? – проворчал Крамли.
– Звуковые эффекты. Они шуршат. Как полы сутаны.
– Господи!
– Да-да, именно.
Потом, когда свечи были зажжены, мы с Крамли, спрятавшись в укромной нише, развеяли в воздухе запах ладана и проверили колокол. Он издал чистый, приятный звон.
– Констанция! – тихо позвал Крамли. – Веди!
И вот вошла Эмили Слоун.
Она двигалась не по своей воле, она не шла; ее голова была неподвижна, неподвижный взгляд неподвижных глаз замер на ее лице, словно выточенном из мрамора. Сперва из темноты показался ее профиль, затем недвижное тело и руки, в безмятежности надгробной статуи застывшие на девственных от времени коленях. Она сидела в кресле на колесиках, подталкиваемом сзади почти невидимой рукой ассистентки режиссера, Констанции Раттиган, одетой в черное, как на репетиции сцены старинных похорон. Как только бледное лицо и ужасающе неподвижное тело Эмили Слоун выплыли из темноты холла, послышался шорох, словно шумно взлетела стайка птиц; мы стали разгонять веерами ладанный дым и негромко звонить в колокол.
Я кашлянул.
– Тсс, она же слушает! – шепнул мне Крамли.
И правда она слушала.
Когда Эмили Слоун оказалась в лучах мягкого света, слабое движение – легкая дрожь – промелькнуло под ее веками, а неуловимое колебание свечного пламени отзывалось на тишину и меняло изгибы теней.
Я помахал веером.
И ударил в колокол.
При этих звуках само тело Эмили Слоун словно унеслось прочь. Как невесомый воздушный змей, подхваченный невидимым ветерком, она качнулась, будто плоть ее растаяла.
Снова ударил колокол, и ладанный дым заставил вздрогнуть ее ноздри.
Констанция отступила назад, во тьму.
Голова Эмили Слоун повернулась к свету.
– Боже мой, – прошептал я.
«Это она», – подумал я.
Слепая женщина, которая пришла в «Браун-дерби» и ушла вместе с чудовищем в ту далекую ночь, за тысячу, казалось, ночей назад.
Значит, она не слепая.
Всего лишь кататоничка.
Но не просто кататоничка.
Она восстала из могилы и плыла по комнате в аромате и дыму благовоний, под звуки колокола.
Эмили Слоун.
Десять минут Эмили сидела, не говоря ни слова. Мы ждали, считая удары своих сердец. Мы смотрели, как пламя пожирает свечи и рассеивается дым.
И вот настало то прекрасное мгновение, когда голова ее склонилась, а глаза широко распахнулись.
Она сидела еще, наверное, минут десять, жадно впитывая воспоминания о тех далеких днях, задолго до того, как страшный удар выбросил ее, словно обломок кораблекрушения, на калифорнийский берег.
Я увидел, как губы ее дрогнули, а язык шевельнулся во рту.
Она словно водила пером по внутренней стороне своих век, а затем воплощала это в словах.
– Никто… – прошептала она, – не пони… мает…
И продолжила:
– Никто… никогда не понимал…
Пауза.
– Он был… – наконец произнесла она и остановилась.
Клубился дым благовоний. Колокол издал тихий звон.
– … студия… он… любил…
Я прикусил запястье и ждал, что она скажет.
– … место… для… игр. Съемочные… площадки…
Тишина. Ее зрачки подергивались, она вспоминала.
– Площадки… игрушки… электрические… поезда. Мальчишки, да. Десятилетние… – Она перевела дыхание. – Одиннадцатилетние…