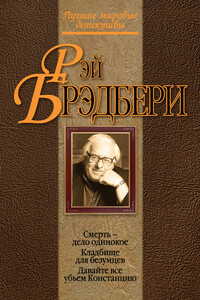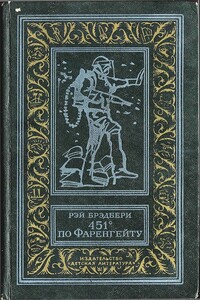– Рой?
В трубке завывал ветер, и где-то вдали поскрипывали стропила.
Мой взгляд инстинктивно обратился в небо.
В сотне ярдов отсюда я увидел… собор Парижской Богоматери. С его башнями-близнецами, статуями святых, горгульями.
На башнях соборов всегда гуляет ветер. Он вздымает тучи пыли, полощет красные флажки монтажных рабочих.
– Это внутренний телефон студии? – спросил я. – Ты там, где я думаю?
Мне почудилось, будто там, на самой вершине, одна из горгулий… пошевелилась.
«О Рой, – подумал я, – если это ты, забудь о мести. Уходи».
Но ветер стих, дыхание смолкло, и в трубке все умерло.
Я положил трубку и стал пристально вглядываться в башни собора. Констанция перехватила мой взгляд и отыскала глазами те же башни, с которых вновь налетевший порыв ветра срывал клубы пыли – серых дьяволов.
– Все, хватит заниматься ерундой!
Констанция не спеша вернулась на террасу и, подняв голову, посмотрела в сторону собора.
– Что, черт возьми, здесь все-таки происходит?! – воскликнула она.
– Тсс! – ответил я.
Фриц как раз был на съемках, посреди шумной массовки: он кричал, указывал, топал ногой, поднимая пыль. Из-под мышки у него торчала рукоятка кнута для верховой езды, но я ни разу не видел, чтобы Фриц им воспользовался. Камеры, три штуки, были уже практически готовы, и помрежи выстраивали статистов вдоль узкой улицы, ведущей на площадь, на которой вскоре, где-то между этим часом и рассветом, должен будет появиться Христос. Едва мы вошли, Фриц заметил нас среди всей этой суеты и махнул рукой своему секретарю. Тот подбежал к нам, и я протянул ему пять машинописных страниц, после чего секретарь помчался обратно сквозь толпу.
Я наблюдал, как Фриц листает мои бумаги, повернувшись ко мне спиной. Его голова вдруг втянулась в плечи. Прошло немало времени, прежде чем Фриц обернулся и, не встречаясь со мной взглядом, взял мегафон. Он закричал. И мгновенно воцарилась тишина.
– Всем молчать! Те, кто может сесть, – сядьте. Остальные встаньте – как вам удобно. До наступления завтрашнего дня Христос придет и уйдет. И вот как это будет нам представляться, когда мы закончим работу и вернемся домой. Слушайте.
И он стал читать страницы моего последнего эпизода, слово за словом, страница за страницей, тихим, но ясным голосом, и никто не отвернулся, никто не шаркнул ногой. Я не мог поверить, что все это происходит. Все это были мои слова о заре над морем, о чуде с рыбой, о странном бледном призраке Христа на берегу, о рыбе, разложенной на углях, что жаркими искрами разметались на ветру, об учениках, тихо слушающих, закрыв глаза, и о крови Спасителя, стекающей под шепот его прощальных слов из раненых запястий и каплями падающей на жаровню этой Тайной вечери, что была после Тайной вечери.
И вот Фриц Вонг дочитал последние слова.
Из толпы, из группы статистов, из римских фаланг донесся всего лишь тихий шепот, и в этой тишине Фриц наконец прошагал сквозь людскую толпу ко мне, уже почти ничего не видевшему от волнения.
Фриц с удивлением посмотрел на Констанцию, отрывисто кивнул ей, затем, немного помедлив, поднял руку, достал из своего глаза монокль, взял мою правую руку и вложил оптический прибор мне в ладонь, как награду, как медаль. Потом он сжал мою ладонь с моноклем в кулак.
– С сегодняшнего вечера, – тихо проговорил он, – ты будешь моими глазами.
Это был приказ, команда, благословение.
Затем он гордо удалился. Я стоял и смотрел ему вслед, сжимая в дрожащем кулаке его монокль. Выйдя на середину притихшей толпы, он схватил мегафон и прокричал:
– Так делайте же что-нибудь!
Больше он на меня не взглянул.
Констанция взяла меня под руку и увела.
По дороге в «Браун-дерби» Констанция, медленно ведя машину, посмотрела на полутемные улицы впереди и сказала:
– Господи, ты веришь во все на свете, да? Но как? Почему?
– Очень просто, – ответил я. – Я не делаю ничего, что я ненавижу, или то, во что не верю. Если бы ты предложила мне написать сценарий для фильма, скажем, о проституции или об алкоголизме, я не стал бы его писать. Я не стал бы платить проституткам, и пьяниц я тоже не понимаю. Я делаю то, что люблю делать. Сейчас, слава богу, это Христос в Галилее во время Его прощальной зари, Его следы на песке. Я закоренелый христианин, но когда я обнаружил эту сцену в Евангелии от Иоанна, или, вернее, когда Иисус открыл ее для меня, я был потрясен. Как я мог не написать об этом?