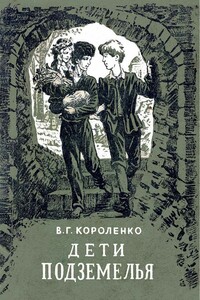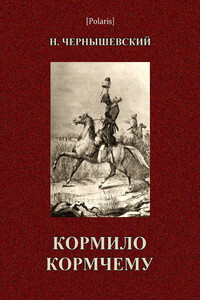1825 г. апреля 23 дня.
Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; однакож не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но бог удержал меня от сего; и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко всевышнему (том V, стр. 19).
Затем Гоголь продолжает рассуждать, что «благословляет священную веру, в которой находит утоление своей горести», так что теперь он спокоен. Неужели в самом деле не был опечален шестнадцатилетний мальчик смертию отца? Странна казалась в «Переписке» манера утверждать, что самые тяжелые потери надобно считать за радостные события, потому что ими очищается душа и доказывается благоволение промысла. Но что это не было притворством, а действительным убеждением Гоголя, видим из письма к матери, по случаю жестокой горести, поразившей одного из ближайших друзей Гоголя:
1838 г. мая 16.
Я получил ваше письмо и уже хотел было отвечать на него, как вдруг мне принесли еще одно ваше письмо, в котором вы извещаете о смерти Татьяны Ивановны. Мне было тоже прискорбно об этом слышать. Мне еще более было жаль, что мой добрый Данилевский не со мною в это время, чтобы я мог сколько-нибудь облегчить участием его потерю и утешить его в ней. Я, однако ж, написал ему об этом в Париж, где он теперь находится и где, может быть, уже получил это печальное известие без меня. Частые потери, наконец, так приучают сердце и ум к мысли о смерти, что она, наконец, не имеет для нас ничего ужасного. Истинный христианин радуется смерти близкого своему сердцу. Он, правда, разлучается с ним, он не видит уже его, но он утешен мыслию, что друг его уже вкушает блаженство, уже бросил все горести, уже ничто не смущает его; и в этом-то состоит глубокое самоотвержение, какое может только быть и какое может только внушить одна христианская религия (том V, стр. 325).
В письме к матери о постороннем человеке Гоголю не было нужды надевать маску; поэтому можно верить искренности его мления, когда он в письме к самому А. С. Данилевскому толкует, что «может быть, горесть, постигшая тебя, есть перелом, который высшие силы почли для тебя нужным, и эти исполненные сильной горести слезы были для оживления твоей души». А надобно заметить, что эти письма относятся к 1838 году, когда Гоголь еще не предавался аскетическому направлению.
Чертою лицемерной гордости, под маскою смирения, казались рассуждения Гоголя о том, что в каждом событии своей жизни видит он руку промысла; но вот отрывок из письма его к матери, оно нимало не уступит «Переписке с друзьями», хотя относится еще к 1829 г.:
1829 г. июля 24.
Теперь, собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей; мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего; но как ужасно это наказание. Безумный! я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один бог вдвинул в меня, претворив меня в жажду, ненасытимую бездейственной рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтоб я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута — богатый запас опытов и знаний; но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе, — это убийственно!