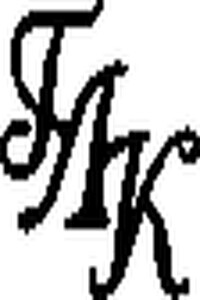Гоголь и географическое воображение романтизма - страница 15
Пространные цитаты из журналов и книг начала XIX в. приводятся с двойной целью: с одной стороны, чтобы зазвучал исторический голос науки, который значительно отличается от современного научного дискурса. С другой – чтобы дать почувствовать, на какой высоте ясности мысли и стиля формулировал свои идеи Гоголь по сравнению с переводными текстами того времени. Красота и прозрачность стиля статьи, несомненно, стали причиной того, что ее не признали научной.
Третья глава первой части посвящена сравнению двух редакций географической статьи Гоголя (1830 и 1834) и тем новшествам, которые появились в статье «Мысли о географии» в «Арабесках». Главное из них состоит в том, что именно во второй редакции была выработана гоголевская концепция географической оптики: описаны способы наблюдения карт и мысленного наблюдения «картин в речах учителя». Проведенный Дерюгиной сравнительный анализ гоголевских статей «Несколько мыслей о преподавании детям географии», «Мысли о географии» и «О преподавании всеобщей истории» показал, что историческая статья создавалась писателем как палимпсест на первой географической. Заимствования были такие существенные, что позволяют предположить намерение Гоголя к ней вовсе не возвращаться. По мнению комментатора, основные значительные идеи Гоголя о преподавании географии были отданы истории, а статья стала более узкой по своей проблематике[90]. Тем не менее географическую статью писатель сохранил. Следовательно, ее вторая редакция («Мысли о географии») после выделения из нее идей для преподавания истории должна была отражать суть гоголевской географии как таковой и выявлять, какие специфические функции Гоголь отводил географии и как они соотносились с его творческими замыслами. Анализ показывает, что отданные истории идеи первой статьи были компенсированы во второй развитием темы зрения и географического воображения. В этой же главе раскрывается гоголевская концепция географического пейзажа как метода исторического анализа жизни народа, который он применил в статье о составлении Украины, а потом в исторических повестях. В отдельной подглавке рассмотрен один любопытный педагогический источник Гоголя, работа И. М. Ястребцова «Об умственном воспитании детского возраста». Соотношение с ней гоголевской статьи позволяет убедиться в степени самостоятельности и свободе творческого подхода писателя к новейшим вопросам преподавания, в частности о значении зрения в обучении.
Вторая часть исследования представляет анализ пейзажей Гоголя с точки зрения привлеченных к ним географических источников. Всей второй части предшествует теоретическое введение, в котором понятие пейзажа концептуализировано как общее для разных областей искусства и знания: живописи, географии, литературы, ландшафтного дизайна, объединенных основным условием пейзажа – присутствием субъекта, который наблюдает и творит пейзаж. В силу вариативности жанра географического пейзажа в прозе Гоголя в отношении наблюдателя к анализу пейзажей привлекается репертуар скопических режимов современности, описанный в хрестоматийной статье М. Джея[91]. Репертуар включает три режима: итальянский перспективизм, картографический взгляд голландского пейзажа и барочный взгляд, свойственный нашей эпохе в не меньшей мере, чем XVII в. Все три режима присущи гоголевским природоописаниям, не проявляясь в них в чистом виде, однако с явным преобладанием одного или другого типа. Смена режимов наблюдения позволяет нащупать переломные моменты в практиках наблюдения и репрезентации пространства, которые создают некий тайный сюжет зрелищности в прозе Гоголя. Такими моментами являются: 1) появление картографического режима в «Страшной мести» и последующих украинских повестях с историческим содержанием; 2) переход к символическому пространству в первом томе «Мертвых душ» и в «Выбранных местах из переписки с друзьями»; 3) внедрение итальянского перспективизма во втором томе поэмы. Обнаружение последнего режима позволяет ретроспективно выявить и оценить барочный взгляд Гоголя в украинских повестях. Барочная перспектива сочеталась у писателя с картографическим импульсом и участвовала в процессе приобщения географических источников. Роль последних в пейзажах, отмеченных сменой режима зрения (первый и третий случаи), не одинаковая, но в обоих случаях решающая.