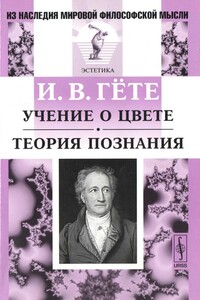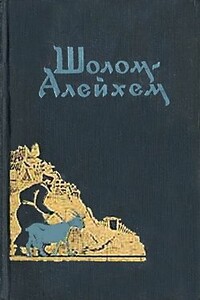— Коль вы так уж настаиваете, извольте, мы вас уважим, — заявила старуха, — но сперва расскажите вы нам, как росло ваше тяготение к театру, сколько вы упражнялись и как счастливо преуспели, что впредь можете считаться хорошим актером. Конечно, у вас при этом случалось немало похождений. Спать ложиться еще рано, у меня в запасе есть непочатая бутылка: кто знает, скоро ли случится нам опять так мирно и приятно посидеть вместе.
Мариана бросила на нее печальный взгляд, не замеченный Вильгельмом, который продолжал свой рассказ.
— Тихие, одинокие мои радости страдали из-за отроческих забав и все расширяющегося круга их участников. В зависимости от игры я попеременно изображал то охотника, то солдата, то всадника, но у меня всегда было перед остальными одно преимущество: я умел ловко мастерить нужные атрибуты. Мечи, например, обычно бывали моего производства; я разукрашивал и золотил салазки и по безотчетному побуждению не мог успокоиться до тех пор, покуда не обрядил всех наших стражников на античный лад. Тут были изготовлены и увенчаны бумажными султанами шлемы, сработаны щиты и даже латы; к таким трудам были привлечены сведущие в портняжестве слуги, а швеи сломали на этом не одну иглу.
Часть моих юных товарищей была у меня теперь снабжена всем, что положено, прочих тоже мало-помалу снарядили, хоть и похуже, — в общем же получился весьма внушительный отряд. Мы маршировали дворами и парками, бесстрашно лупили друг друга по щитам и головам; случались у нас и распри, однако они быстро улаживались.
Эта игра увлекла всех остальных, но стоило повторить се несколько раз, как она перестала меня удовлетворять. Зрелище стольких вооруженных фигур, естественно, подстрекнуло мою тягу к рыцарству, которая овладела мною с тех пор, как я пристрастился к чтению старинных романов.
Попавший мне в руки копповский перевод «Освобожденного Иерусалима»[4] прекратил наконец разброд в моих мыслях, направив их на определенную стезю. Правда, всю поэму я не в силах был прочитать: зато некоторые места запомнил наизусть, и образы их носились передо мной. Особенно приковывала меня всеми своими помыслами и поступками Клоринда. На душу, только начавшую развиваться, больше оказывала воздействие мужественность этой женской натуры и спокойная полнота ее внутреннего мира, нежели жеманные прелести Армиды, чьи сады, впрочем, я отнюдь не презирал.
Но когда я по вечерам прогуливался по площадке, устроенной между коньками крыши, и смотрел на окружающую местность, а от закатного солнца у черты горизонта поднимался мерцающий сумеречный отсвет, звезды проступали на небосводе, изо всех уголков и провалов надвигалась ночь и звонкое стрекотание кузнечиков прорезало торжественную тишину, — я сотни и сотни раз повторял в памяти историю прискорбного единоборства между Танкредом и Клориндой.
Хотя я, как и должно, был на стороне христиан, однако всем сердцем сочувствовал языческой героине, замыслившей поджечь гигантскую башню осаждающих. И когда Танкред встречал среди ночи мнимого воина, и под покровом тьмы возгорался спор, и они бились что есть силы, стоило мне произнести слова:
Но мера бытия Клоринды уж полна,
И близок час, в который смерть ей суждена! —
[5]как на глаза набегали слезы; они лились ручьем, когда злополучный любовник вонзал меч в ее грудь, снимал шлем с умирающей и, узнав ее, с дрожью спешил принести воду для крещения.
Но как же надрывалось мое сердце, когда в зачарованном лесу меч Танкреда поражал дерево и из надреза текла кровь, а в ушах героя звучал голос, говоривший, что и тут он нанес удар Клоринде и что ему суждено повсюду, неведомо для себя, ранить то, что ему всего дороже!
Эта книга до такой степени полонила мое воображение, что все прочитанные из нее отрывки смутно слились у меня о единое целое, столь сильно мною завладевшее, что я мечтал воплотить его на сцене. Мне хотелось сыграть Танкреда и Ринальдо, для чего нашлось двое полных доспехов, уже изготовленных мною. Один из темно-серой бумаги, с чешуей назначен был украшать сумрачного Танкреда, другой, из серебряной и золотой бумаги — блистательного Ринальда. Со всем жаром воображения я изложил замысел товарищам, которые пришли в восторг, только не верили, что это может быть представлено на сцене, да еще не кем иным, как ими.