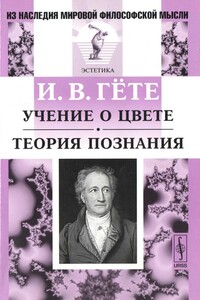— Меня не удивляет, что ты так живо помнишь об этом; ты принимал во всем немалое участие. Я не забыла, как ты утащил у меня книжечку и выучил наизусть всю пьесу. Спохватилась я, только когда ты однажды вечером вылепил из воска Голиафа и Давида и, поразглагольствовав за обоих, под конец дал пинка великану, а его уродливую голову насадил на булавку с восковой шляпкой и прилепил к руке малыша Давида. Я тогда по-матерински от души порадовалась твоей памяти и твоему красноречию и решила, что сама непременно отдам тебе труппу деревяшек. Тогда я не подозревала, сколько горьких часов ждет меня из-за них.
— Не надо укорять себя, ведь нам-то эта забава доставила немало веселых часов, — заметил Вильгельм.
Он тут же выпросил у матери ключи и поспешил на розыски кукол, нашел их и на миг перенесся в те времена, когда они казались ему живыми, когда живостью речи, движением рук он как будто вселял в них жизнь. Он унес кукол к себе в комнату и бережно схоронил их.
Если верно говорят мне со всех сторон, что первая любовь — прекраснейшее из чувств, какие человеческому сердцу рано или поздно суждено изведать, значит, мы должны почесть нашего героя трижды счастливым, ибо ему дано было насладиться этими дивными мгновениями во всей их полноте. Мало кому выпадает столь прекрасный удел, для большинства людей прежние их чувствования служат жестокой школой, где, испытав лишь жалкую усладу, они расстаются с лучшими своими упованиями и навсегда говорят прости тому, что мнилось им высшим блаженством.
Страсть Вильгельма к пленительной девушке воспарила ввысь на крыльях воображения; после краткого знакомства он заслужил взаимность и стал обладателем создания не только горячо им любимого, но и чтимого; недаром она впервые явилась перед ним в самом выигрышном свете, в свете театральной рампы, и тяготение к сцене слилось для него с первой любовью к женщине. Юность щедро дарила ему радости, которые украшались и утверждались поэтическим горением. Обстоятельства требовали от любимой такого поведения, которое всемерно поощряло чувства Вильгельма; боязнь, что возлюбленный прежде времени обнаружит другие стороны ее жизни, придавала ей трогательно-грустный и стыдливый вид; она любила его со всей искренностью, а тревога как будто даже приумножала ее нежность; в его объятиях она была само очарование.
Когда он, стряхнув с себя первое опьянение счастьем, оглянулся на свою жизнь и отношения с людьми, все ему показалось внове, обязанности стали священнее, увлечения живее, познания отчетливее, способности значительнее, намерения тверже.
Поэтому ему не составило труда придумать такой способ, чтобы, избегая укоров отца и успокаивая мать, без помех наслаждаться любовью Марианы. Днем он добросовестно выполнял свои обязанности, спектакли посещал очень редко, вечером за ужином занимал близких беседой, а когда все укладывались спать, крался, завернувшись в плащ, через сад и, сочетая в себе всех Линдоров и Леандров[2], неудержимо спешил к своей возлюбленной.
— Что там такое? — спросила однажды вечером Мариапа при виде принесенного им свертка, который старуха разглядывала очень пристально в чаянии заманчивых даров.
— Ни за что не угадаете, — отвечал Вильгельм.
Как же удивилась Мариана и вознегодовала Барбара, когда салфетку развязали и глазам их предстала беспорядочная куча кукол с пядень величиной. Мариана, смеясь, смотрела, как Вильгельм разматывает перепутанные нити, чтобы показать каждую куколку в отдельности. Старуха в досаде поплелась прочь. Всякая малость может позабавить двух влюбленных, и наши друзья превесело провели этот вечер. Каждую фигурку кукольной труппы внимательно рассмотрели, над каждой посмеялись. Царь Саул в черном бархатном кафтане и в золотой короне совсем не понравился Мариане: очень узк он спесивый и строгий, заявила она. Тем больше пришелся ей по вкусу Ионафан — его безбородое лицо, его тюрбан и желтое с красным одеяние. Когда она дергала его, он у нее исправно прыгал взад-вперед, отвешивал поклоны и объяснялся в любви. Зато от пророка Самуила она решительно отмахнулась, сколько Вильгельм ни выхвалял перед ней его нагрудничек и ни толковал, что переливчатая тафта хламиды взята из старого бабушкиного платья. Давида она находила слишком маленьким, а Голиафа слишком большим и никого знать не желала, кроме своего Ионафана; она так мило ласкала его, а потом переносила все нежности с куклы на Вильгельма, что и на сей раз ребяческая игра послужила прологом к часам блаженства.