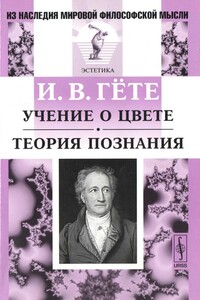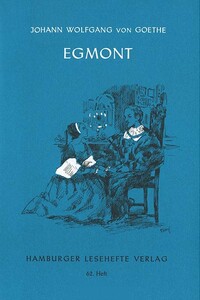— А вы показываете, что плохо знаете мир, ставя все* подобные явления в укор театру. Право же, я готов простить актеру любой недостаток, проистекающий из самообольщения и жажды нравиться; ведь если он не может казаться чем-то и себе и людям, значит, он ничто. Его призвание в том, чтобы казаться, и как же должен он ценить минутный успех, раз другой награды ему не дано; ему непременно надо блистать — ведь для того он и стоит на сцене.
— Позвольте и мне хотя бы улыбнуться, в свой черед, — вставил Вильгельм. — Никак не ожидал, что вы можете быть столь справедливы, столь снисходительны.
— Клянусь богом, я говорю вполне продуманно и серьезно. Все человеческие пороки я прощаю актеру и ни одного актерского порока не прощаю человеку. Не вызывайте меня на сетования по этому поводу, они прозвучат патетичнее ваших.
Из кабинета вышел хирург и на вопросы, каково самочувствие больного, ответил с подчеркнутой веселостью:
— Как нельзя лучше. Надеюсь вскорости увидеть его совсем здоровым.
И он тотчас же выбежал вон из залы, не дожидаясь расспросов Вильгельма, а тот уже рот раскрыл, чтобы осведомиться, откуда у него сумка. Настойчивое желание хоть что — нибудь узнать о своей амазонке побудило его довериться Ярно. Он поведал ему свое приключение и попросил о содействии.
— Вам столько всего известно, — добавил он, — неужто вы не дознаетесь и до этого?
Ярно задумался на миг, а затем сказал своему молодому другу:
— Будьте покойны и не выдавайте себя, мы уж как-нибудь нападем на след вашей красавицы. Сейчас меня тревожит здоровье Лотарио. Положение опасное, об этом свидетельствует чрезмерная ввеселость и успокоительные речи хирурга. Я охотно спровадил бы Лидию — от нее здесь ни малейшей пользы. Только не знаю, как это устроить. Надеюсь, сегодня приедет наш старый лекарь, а потом уж мы обсудим дальнейшее.
Лекарь приехал; это был уже известный нам старичок, который познакомил нас с тем поучительным манускриптом.
Прежде всего он осмотрел раненого и остался явно недоволен его состоянием. Затем он имел долгую беседу с Ярно, но оба ни словом не обмолвились о ней за ужином.
Вильгельм сердечно приветствовал его и осведомился о своем арфисте.
— Мы не теряем надежды вернуть бедняге здоровье, — отвечал врач.
— Этот человек был печальным добавлением к вашему своеобычному и замкнутому образу жизни, — заметил Ярно. — Расскажите, что с ним произошло дальше.
После того, как любопытство Ярно было удовлетворено, врач продолжал:
— Никогда не случалось мне видеть человека в столь странном душевном состоянии. Долгие годы он ничем не занимался и не интересовался, что не касалось его самого; сосредоточась на себе, он созерцал свое пустое и праздное «я которое представлялось ему глубочайшей бездной. Как трс гал он за душу, когда говорил о своем печальном положен»!и! «Я ничего не вижу для себя ни впереди, ни позади — одну только нескончаемую ночь, и в ней я пребываю в ужасающем одиночестве, — жаловался он, — никакого иного чувства иг осталось у меня, кроме чувства вины, да и она мерещител мне где-то сзади отдаленным бесформенным призраком. Там нет ни высоты, ни глубины. Ничего впереди, ничего позади; нет таких слов, чтобы выразить мое неизменно одинаковое состояние. Иногда под гнетом этой неизменности я восклицаю: «Навек! Навек!» — и это удивительное, непостижимое слово представляется мне лучом света среди мрака моего состояния. Ни единая искра божества не озарит для меня эту ночь, все свои слезы я стараюсь выплакать про себя и о себе. Всего страшнее мне дружба и любовь, ибо они одни соблазняют меня пожелать, чтобы окружающие меня видения стали действительностью. Но и эти два призрака поднялись из бездны лишь для того, чтобы запугать меня и отнять даже драгоценное сознание этого безумного бытия».
Послушали бы вы, — продолжал врач, — как в минуты откровенности он такими речами облегчает себе душу; я но раз с величайшим волнением слушал его. Если обстоятельства вынуждают его на миг признать, что прошло какое-то время, он будто изумляется этому, а затем снова отвергает изменяемость вещей, видя в ней чудо из чудес. Однажды вечером он пропел песню о своей седине, мы все сидели вокруг него и плакали.