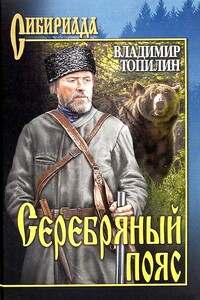На берег с нами вышло несколько казаков и казачек проводить нас. Прибежала гурьба казачат. Среди них Пашка с узелком огурцов нам на дорогу.
Вечер стоял чудесный: теплый, по-осеннему задумчиво-ясный. Мягко золотились по берегам осиновые перелески. Травы пожелтели, но пахли еще пряно и сильно. Над нами прозрачно-серебряными нитями протянулась легкая паутина. Урал покойно бежал среди песков и черных яров. Длинными косяками пролетала черная казара. В степях за поселком далеким светлым костром умирал широкий закат.
Казачки уселись кружком на берегу и пели песни. Подвыпивший молодой кудрявый парень джигитовал по полю на невзрачной сивой лошаденке. На всем скаку нарочно валился ей через голову на землю, – умная лошадь останавливалась над ним как вкопанная. Стоя на коленях на ее спине, бешеным карьером мчался к Уралу, – лошадь, врезавшись копытами в землю, застывала на шаг от крутого яра. Казак сползал ей на брюхо, держась на одних стременах, и она снова несла его по полю. Казаки возбужденно гикали ему вслед, глаза их блестели от возбуждения. Развеселившийся старик Панкрат рвался к реке, кричал:
– Эх, не ушла еще моя сила! Сейчас переплыву на Бухарску, померяюсь могуществом с Яик Горынычем. Сигану, как чухна, на пески!
Его держали два казака. Он кулем повалился на землю и тихо захныкал, как обиженный ребенок:
– Че вы меня не пущаете? Дите я вам? А?
Я сидел на яру и смотрел на тихие волны Урала. Вспоминалось детство, наши детские скачки, купание, степи весною, казак Василистович, лечивший на хуторе нашего Карего от «мышек». Над рекой плыла песня:
За грибами в лес девицы
Гурьбой собрались.
Как дошли д’опушки леса,
Так и разбрелись.
Панкрат кричал:
– Земляки, а земляки! Спойте мне: «В степи широкой под Иканом». Во это песня! А это што? Тьфу!
Пашка вертелся возле меня и звал меня на охоту. Мы пошли с ним вдоль берега, по мелкому осиннику. Обошли Курюковскую старицу. Грая тихо выступала по желтым увядающим листьям. Потянула в густой осинник и задумчиво остановилась в его чаще. Я приготовился к выстрелу. С берега ясно неслось:
На пригорке в чаще леса
Ручеек бежит.
Там одна из них девица,
Притаясь, стоит.
Она грибов не собирает
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает:
– Что-то он нейдет?
Грая не трогалась, кося в сторону желтым круглым глазом, словно прислушиваясь к песне.
– Пиль!
Собака осторожно шагнула вперед. Темным золотым серпом взметнулся среди тонких белесых стволов осинника острокрылый вальдшнеп. После выстрела безвольно раскинулся с каплей рубиновой крови на длинном носу у корня старой ветлы. Пашка хищно сграбастал его, прохрипев:
– Гляди, глаза, как у калмыка, назад смотрят…
Мы часа два бродили по берегу Урала, наслаждаясь покоем погожего вечера, красивой работой собаки в поисках большеглазых ночных птиц. Их было немало здесь. А ведь мы в детстве даже не знали об их существовании.
В сумерках на поле зазвенели куропатки. Грая метнулась туда. Сразу же поиск ее стал иным: стремительным и напряженным. Пашка указал мне на белое пятно остановившейся за кустом собаки. Я подошел и выстрелил из обоих стволов в взметнувшуюся стаю. С трудом отыскали мы в темноте убитых птиц и пошли к стану. Охота кончена. Последние выстрелы.
Парохода все еще не было слышно. Казаки повезли нас на лодке на Бухарскую сторону посмотреть садки с рыбой. По пескам виднелись следы волков. Они ночами ходят сюда воровать рыбу. В заливчике, отгороженном плетешком, закрытом с берега сетями от ворон и волков, кишела рыба. Высовывали свои тупые головы сонные судаки, взметывалась красная рыба – осетр и шипы, поднимая над водою свои обмахи – полумесяцы. Метались бойкие жерехи.
Поздно ночью вдали над лесом мягким широким заревом вспыхнул прожектор: пароход освещал себе путь. Послышался глухой говор вод от колес парохода. Распрощавшись с казаками, мы отплыли в темноте из Каленого. Невидимый Пашка кричал мне с высокого яра:
– Мотри, на тот год приезжай! Волков гонять будем. Я аргамака себе куплю. Во! Не забывай нас. Письма шли!
В шуме вод потонули его последние слова. Пароход двинулся. Замелькали реденькие огоньки в Каленом. Светлыми точечками закачались они в синей тьме, будто волчьи глаза в степи.