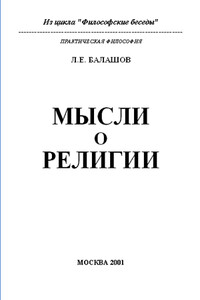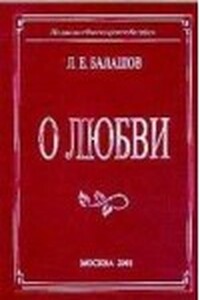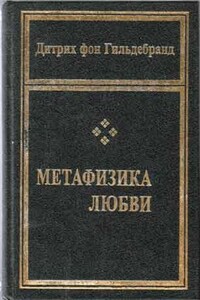Когда философы употребляют слово «одиночество» в положительном смысле, этим они, грубо говоря, ломают, насилуют язык, сбивая с толку многих и многих своих последователей. Если одиночество — хорошая вещь, то, значит, жить в обществе, быть в контакте (непосредственном и косвенном, заочном) с людьми — плохо. А это уже проповедь мизантропии, крайнего индивидуализма, человеконенавистничества и т. д., и т. п.
22. Попытки элиминировать понятие совести
Еще одно негативное следствие пренебрежительного отношения к естественному языку и мышлению: порой выкидываются за борт фундаментальные понятия, выработанные человечеством для регуляции человеческих отношений, и тем самым пересматриваются сами основы человеческой жизни. Ярчайший пример: попытка Ф. Ницше элиминировать понятие совести. В частности, он писал: "Испытывал ли я когда-нибудь угрызение совести? Память моя хранит на этот счет молчание." (Т. 1. С. 722, "Злая мудрость", 10). Или: "Угрызение совести — такая же глупость, как попытка собаки разгрызть камень" (Там же. С. 817, "Странник и его тень", 38).
Гитлер наверняка был вдохновлен Ницше, когда напыщенно провозглашал, обращаясь к солдатам: "Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью"[26] (вариант: «Я освобождаю вас от грязной и разлагающей химеры, именуемой совестью и моралью»).
Аморализм гитлеризма (немецкого нацизма), замешанный на ницшеанском отношении к совести, всем известен. Цена этого аморализма: в развязанной им второй мировой войне погибло свыше 50‑и миллионов людей. Советский Союз заплатил за этот аморализм 27 миллионов жизней.
Гитлеризм канул в лету. А вот попытки покончить с совестью не прекращались. Энрико Ферми, итальянский физик, участвовавший в атомном проекте США, в разгар дискуссий о правомерности предстоящей атомной бомбардировки двух японских городов (в августе 1945 г.) бросил фразу вполне в духе Ницше: "Не надоедайте мне с вашими угрызениями совести".[27] Цена этого "не надоедайте" — 140 тысяч погибших-раненых в Хиросиме и 75 тысяч погибших-раненых в Нагасаки.
Дух Ницше стал даже проникать в массовое сознание. Наглядная иллюстрация: в знаменитом американском фильме "Годзилла" молодая журналистка обманула доверие своего старого друга, украв и обнародовав принадлежавший ему секретный видеоматериал; в результате он потерял работу. Жена молодого человека, коллега этой журналистки, упрекнула его: "Ты убедил ее, что иметь совесть немодно". Если уж в фильм попала такая фраза, то это значит, что, действительно, в молодежной среде, в некоторых кругах активно проводится эта чудовищная и нелепая идея "иметь совесть немодно". Если эта идея овладеет сознанием большого количества людей, то жди беды: либо гитлеризма в новом обличье, либо чего еще похуже.
Совесть — фундаментальная нравственная категория, определяющая поведение человека практически во всех жизненных ситуациях. Невозможно представить нормальную жизнь человека без совести. Человек, поступающий противно совести, ставит себя, как правило, вне общества — и в моральном, и в физическом, и в юридическом смысле (диапазон этого "вне общества" велик: от потери нормальных человеческих отношений с окружающими до бойкота и, далее, к тюремной изоляции и даже физической гибели). Если количество людей, поступающих противно совести, превысит некоторую критическую массу, то жди великих бед и несчастий в виде войн, геноцида, терроризма, эпидемии наркомании, снижения рождаемости и повышения смертности...
23. Ницшеанское третирование морали и права
По поводу ницшеанского третирования морали и права Ю. Н. Давыдов пишет в книге «Этика любви и метафизика своеволия» (М., 1982):
«Стремление «преступить» выражает согласно Ницше суть дела, а то, в чем оно найдет свое выражение, не столь важно. Более того: это не всегда адекватный, зачастую совсем неадекватный способ реализовать изначальное стремление «преступить», нарушить норму, закон, принцип, абсолют, выйти за рамки заранее положенной «меры» (с. 91-92).
«...для Ницше главное заключалось в апологетике преступления и преступника, сколь бы чудовищным оно ни было. Подчас даже закрадывается подозрение, что чудовищные, из ряда вон выходящие преступления импонировали ему даже больше, чем преступления «средние» и «обычные», — ведь в них тоже было что-то от «усредненности», которую философ так ненавидел» (с. 91).