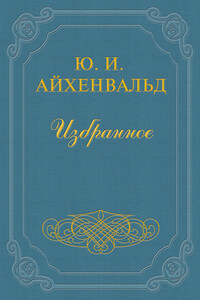Он едет, едет русскими дорогами, русским бездорожьем, едет по Волге и Каме, по Черному морю и Каспию, и всюду сам собою встречается ему тот людской материал, которого он ищет, потому что он именно – ловец, «ловец человеков», и на него бежит человек. И в результате перед нами – какая-то психологическая этнография, путешествие в чужие сердца, как в чужие, но близкие страны. Непрерывное томление духа побуждает Успенского, бездомного странника, идти на огонек человеческих душ, останавливать всех и каждого, заводить разговор с другими путешественниками, с другими переселенцами, потому что все люди так интересны, у каждого есть свое интимное содержание, своя затаенная печаль, и столько можно услышать глубоких речей, и, может быть, из чьих-нибудь скромных уст нечаянно-негаданно раздастся то слово правды и света, которого жаждет истомленная душа писателя-путника. И жизнь Успенского обращается в длинный ряд дорожных встреч; многие его рассказы представляют собою разговор с каким-нибудь случайным попутчиком, и много у него таких собеседников, потому что беседа – великая потребность его внимательной и общительной души – души, в то же время любопытной и к смешному, исполненной живого юмора. И в этом последнем смысле тоже интересен Успенскому его собеседник, возможный носитель комического. Но больше, чем эта сторона, характеризует автора моральная заинтересованность человеком и его судьбой, его русской судьбой. Успенского мучит совесть, если он не поговорит «самым настоящим, самым душевным разговором», например, с этой партией добровольцев, где «зачастую попадаются бриллианты искренности, доброты, простоты, самоотвержения». И эпиграфом для некоторых его произведений могли бы служить эти слова, как стон звучащие в одном из его очерков: «Боже мой, как мне страстно, как мне жадно хочется поговорить о чем-нибудь живом и услышать живое человеческое слово!»
Он слушает жизнь, подобно тому как один из его героев, под аккомпанемент чужих насмешек, читает жизнь. Правда, и Глеб Успенский, не думая о себе, интересуясь другими, много читает, в особенности – газеты; он понимает все страшное красноречие беглой летописи дня, с ее сведениями «о масле из дерева, о говядине из бумаги», и факты, которые она передает, не улетают от него, «как муха, на мгновение присевшая вам на руку или на лоб»: они запечатлеваются в его сердце жгучими буквами. Но главным образом он слушает жизнь, и ее «степной ревучий ветер, облетая с шумом стены его жилья», доносит к нему «множество самых тревожных звуков, в которых слышен и как бы набат отдаленный и неумолкаемый, и волны, и крик».
Степной ревучий ветер жизни, донося ее тревожный набат, ее волны и крики, разве даст беспокойному путнику погрузиться в негу художественного созерцания? Нет, при таких условиях можно только торопливо зарисовывать в походный альбом жизненные силуэты и сцены, как это и делает Успенский. У него и получилась целая груда записных книжек, и он называет одну из них своей «растрепанной подругой». Жизнь вмещена в записные книжки. Их одухотворенные, трепещущие и нервные страницы богаты человеческими примерами, разнообразной комбинацией житейских положений. Они содержат много биографий, и притом биографий, принадлежащих таким людям, жизнью которых мало кто интересуется. Она протекает никому не ведомая, никому не любопытная – и в то же время как значительна и близка она для того, кто несет ее бремя на самом себе! И вот это горькое противоречие, эту обиду никому не рассказанной биографии, разрешает Успенский, вдумчивый слушатель действительности, участливый собеседник людей.
Он и в деревню от времени до времени уходит для того, чтобы отдохнуть от своего путешествия по жизни, от человеческого шума столицы. И в деревне в самом деле «темная, черная ночь, смиловавшись над измученными нервами, по которым столичный день, как полупьяный тапер на разбитом инструменте, колотит с утра до ночи, закрывает, наконец, крышку инструмента и ни единым толчком не трогает избитых струн». Но разве и деревня, обильное гнездо всяких тягостей, может надолго дать покой?