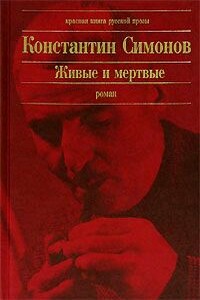Поездка в пятьдесят пятом году нашей правительственной делегации во главе с Хрущевым в Югославию, возрождение отношений и та откровенность, с которой при обсуждении итогов этой поездки на пленуме ЦК говорилось о мере нашей ответственности, — все это было мне не просто по душе, а снимало тот камень, который на ней лежал. Тогда же, в пятьдесят пятом году, готовясь к выступлению на московском городском партийном активе, я решил, что с моей стороны будет непорядочным умолчать о собственной доле ответственности. Повторяться на такие темы довольно мучительно, поэтому приведу здесь сказанное тогда:
«Мне было, например, горько, что в годы разрыва с Югославией и я, как журналист, вложил свою лепту в тот хор, прямо скажем, брани по адресу руководителей Югославии, в тот хор, который не один год звучал со страниц наших газет. Я думаю о том, что, конечно, можно сейчас сослаться на ту чудовищную дезинформацию, которую преступно стремилась поставлять шайка Берии — Абакумова; можно сослаться на очень авторитетные документы, которые появились в результате ошибочного доверия к этой чудовищной дезинформации, но я вот сейчас спрашиваю себя не в порядке бития в грудь — это никому из нас не нужно, — а вот так, просто по-человечески: ну, безусловно, можно было поверить в то, что кто-то в той же Югославии не оправдал доверия народа, оказался не тем, кем его считали, это бывает в истории, мы знаем. Но как все-таки можно было до конца поверить в то, что почти все буквально люди, которые в годы войны руководили югославской компартией, были во главе правительства, командовали партизанскими бригадами, дивизиями и корпусами, что все они якобы оказались не теми, за кого их считал народ. Нельзя было в это верить, такая доверчивость не делает чести никому, так, говоря просто по-человечески, быть не могло и не было».
Остается добавить, что и после пятьдесят пятого года в течение ряда лет я не находил в себе сил поехать в Югославию даже тогда, когда возникла прямая необходимость побывать в тех местах, где я был во время своего пребывания у партизан. Мне было стыдно ехать, все из-за той же проклятой статьи. Многое из происходившего за последующее десятилетие там, в Югославии, не привлекало моих симпатий к личности Тито, скорее наоборот, он все чаще вспоминался мне в своем дворце при том явлении вождя народу, о котором я уже упоминал, и все реже вспоминался поющим вместе с командирами партизанских корпусов «Эй, комроты, даешь пулеметы!» в сорок четвертом году на празднике седьмого ноября. Все так, но та давнишняя статья моя про этого человека оставалась ложью, и мне продолжало быть стыдно за нее.
Когда я наконец все-таки решился, придравшись к случаю — к какой-то международной туристической конференции, которая происходила в Сплите и на которую меня пригласили, — взял и поехал в Югославию, побывал не только в Сплите, но и в местах, знакомых мне по военному времени, при всем радушии и добром отношении всех югославов, с которыми я встречался, при их явно выраженном нежелании вспоминать тяжелые страницы прошлого, для меня оставался очень важным и болезненным вопрос: захочет ли теперь встретиться со мной Коча Попович? Захочет ли он этого после той, несомненно читанной им в бытность не то начальником Генерального штаба, не то государственным секретарем моей статьи?
В то время, когда я приехал в Югославию, он был не то что не у дел, но занимал пост скорее весьма почетный, чем сопряженный с реальной властью. Я через третьих лиц сообщил ему, что хотел бы с ним встретиться, если у него есть на то желание. Он подтвердил, что готов встретиться, назначил час и заехал за мной в гостиницу, чтобы, как выяснилось, вместе пойти пообедать в какой-то любимый рыбный ресторанчик. Был он все такой же легкий, худощавый, как раньше, очень похожий на себя самого, каким был двадцать с лишним лет назад. В разговоре с этим человеком, который, по первому моему впечатлению, остался таким же, каким был, и к которому я продолжал чувствовать прежнюю симпатию, я не уклонился от тяготившего меня воспоминания о моей статье. Он задумался, помолчал, потом сказал, что время было очень плохое, что вы, конечно, были во многом виноваты. «Но и мы тоже были виноваты», — добавил он с грустью. Мне вообще показалось, что он был грустен. Было нечто в обстановке, сложившейся к тому времени в Югославии, тяготившее его, было что-то не то или не совсем то, о чем он мечтал в сорок четвертом году, когда мы ездили с ним на одном «джипе», и, может быть, воспоминания об этом даже обострили его нынешнюю грусть.