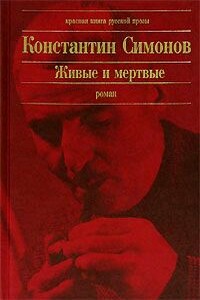Фадеев начал читать письмо, которое передал ему Сталин. Сталин до этого, в начале беседы, больше стоял, чем сидел, или делал несколько шагов взад и вперед позади его же стула или кресла. Когда Фадеев стал читать письмо, Сталин продолжал ходить, но уже не там, а делая несколько шагов взад и вперед вдоль стола с нашей стороны и поглядывая на нас. Прошло много лет, но я очень точно помню свое, не записанное тогда ощущение. Чтобы не сидеть спиной к ходившему Сталину, Фадеев инстинктивно полуобернулся к нему, продолжая читать письмо, и мы с Горбатовым тоже повернулись. Сталин ходил, слушал, как читает Фадеев, слушал очень внимательно, с серьезным и даже напряженным выражением лица. Он слушал, с какими интонациями Фадеев читает, он хотел знать, что чувствует Фадеев, читая это письмо, и что испытываем мы, слушая это чтение. Продолжая ходить, бросал на нас взгляды, следя за впечатлением, производимым на нас чтением.
До этого с самого начала встречи я чувствовал себя по-другому, довольно свободно в той атмосфере, которая зависела от Сталина и которую он создал. А тут почувствовал себя напряженно и неуютно. Он так смотрел на нас и так слушал фадеевское чтение, что за этим была какая-то нота опасности — и не вообще, а в частности для нас, сидевших там. Делал пробу, проверял на нас — очевидно, на первых людях из этой категории, на одном знаменитом и двух известных писателях, — какое впечатление производит на нас, интеллигентов, коммунистов, но при этом интеллигентов, то, что он продиктовал в этом письме о Клюевой и Роскине, тоже о двух интеллигентах. Продиктовал, может быть, или сам написал, вполне возможно. Во всяком случае, это письмо было продиктовано его волей — ничьей другой.
Когда Фадеев дочитал письмо до конца, Сталин, убедившись в том, что прочитанное произвело на нас впечатление, — а действительно так и было, — видимо, счел лишним или ненужным спрашивать наше мнение о прочитанном.
Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту минуту, я признателен ему за это.
Как свидетельствует моя запись, сделанная 14 мая сорок седьмого года, когда письмо было прочитано, Сталин только повторил то, с чего начал:
— Надо уничтожить дух самоуничижения, — и добавил: — Надо на эту тему написать произведение. Роман.
Я сказал, что это скорее тема для пьесы.
Прежде чем приводить дальше свою старую запись, прерву себя тогдашнего и добавлю, что слова эти выскочили из меня совершенно непроизвольно, просто как профессиональное соображение, которое действительно подсказывало, что тема, о которой шла речь, скорей для сцены, чем для книги. В тот момент я совершенно не думал о себе, не думал о том, что я сам драматург, я сидел в самой середине повести «Дым отечества» и не думал и не в состоянии был думать ни о чем другом, считая, что, доведя до конца эту работу, как писатель выполню самый прямой свой партийный долг. Может быть, именно из-за забвения всяких других возможностей, кроме этой, у меня и выскочила эта проклятая фраза: «Скорей для пьесы», поставившая впоследствии передо мной очень тяжелую для меня проблему, чего я в тот момент ни в малой степени не предвидел, тем более что Сталин, казалось, не обратил никакого внимания на мою реплику. Вернусь к записи того дня:
«— Надо противопоставить отношение к этому вопросу таких людей, как тут, — сказал Сталин, кивнув на лежащие на столе документы, — отношению простых бойцов, солдат, простых людей. Эта болезнь сидит, она прививалась очень долго, со времен Петра, и сидит в людях до сих пор.
— Бытие новое, а сознание старое, — сказал Жданов.
— Сознание, — усмехнулся Сталин. — Оно всегда отстает. Поздно приходит сознание, — и снова вернулся к тому же, о чем говорил. — Надо над этой темой работать.
Потом он перешел к вопросу, о котором я не могу здесь писать…»
Здесь мне придется остановить себя на середине фразы, записанной тогда, и рассказать, что это за вопрос — совершенно неожиданный для всех нас троих. Разумеется, было бы странно через столько лет претендовать на дословное изложение сказанного, но не записанного тогда, однако мне столько раз доводилось потом, особенно в пору моей работы редактором «Литературной газеты», вспоминать об этом — по внутренней, а также по служебной необходимости, — что от такого мысленного повторения происшедшего тогда разговора он застрял в памяти прочнее многого другого. В сущности, это был не столько разговор, сколько получасовой монолог Сталина, начавшийся со слов: «Мы здесь думаем», — Сталин вообще, и как мне помнится, и как это было мной записано тогда, редко говорил «я», предпочитал «мы».