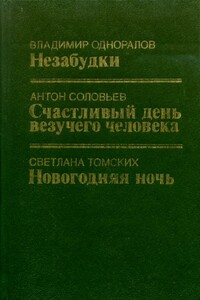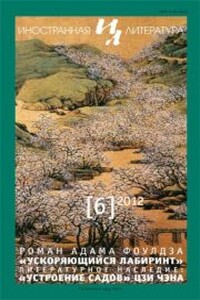Лыжа зацепилась. Тимофей переставил ее чуть в сторону, и из-под тяжелой снежной поверхности, наполовину освобожденная от гнета, вырвалась, выпрямилась, сбросив остатки снега, согнутая сугробом до земли молодая пихточка.
Тимофей подправил ее и обернулся на своего спутника. Тот шел на непривычных для него, человека городского, широких охотничьих лыжах легко, чувствовалась в нем мужская природная немалая сила. И глаза его Тимофею понравились. Эти глаза не выглядели усталыми после многочасового перехода, и сейчас, когда Тимофей боялся поймать в них скользь насмешки из-за пихточки, из-за маленького желания сделать добро в то время, когда идешь делать зло, смотрели добро и с любопытством, словно изучали.
— Курнем, что ль? — выпрямляясь и сбрасывая с плеча лямку вместительного, но сейчас, при небольшом, не сезонном запасе, отвислого рюкзака, предложил Грязнов. — Еще не устал, как? А то с непривычки знаешь как бывает… На следующий день кажется, что ноги не из того места растут…
— Да ничего, пока терплю, — улыбнулся спутник и лохматой — снаружи и изнутри кроличий мягкий мех — рукавицей стряхнул со срубленного годами и ветрами ствола сосны снежную слежалую шапку, сбросил тяжелые лыжи, сел.
Они сидели друг к другу лицом, молчали. Первый — оттого, что привык один коротать и скрашивать двух постоянных противников охотника в тайге — километры и одиночество, второй оттого, что устал с непривычки, хоть виду старался не подавать. Курили, пуская белый горячий дым в легкий морозный воздух. Дым выходил вместе с паром от дыхания двух человек, сливался и оттого казался большим белым облаком.
— А вот скажи, Володь, только давай честно. Ладно? Ты как, не боишься, а?
— Чего?
— Ну, всего… Медведя, например… Охоты вот этой…
Борода Володи разинулась в улыбке просто и легко, естественно, без всякой наигранности и бравады, всем любителям побаловаться охотой, известное дело, присущей.
— Боялся, так не шел бы, наверное.
— Кхе… Это верно, оно так.
Тимофей поверил — он и в самом деле не боится. И это как раз не понравилось. Не нравилось, что гость вот так легко относится к этой охоте.
«Просто шалопай, и не знает, что эт за штука такая — медвежище…» — решил он.
Сам Тимофей не просто умом, а всеми годами, прожитыми в тайге, всем тем, что из отдельных встреч, разговоров, случаев с ним или с кем-то, с дедом, отцом, прадедом вылилось в единое целое и стало его настоящей натурой, его жизнью, тем, что принято называть общим словом — опыт, всем этим Тимофей понимал, что выгнать из берлоги под выстрел медведя, надеясь только на случай, на удачу, на авось — глупо. Улыбаться — авось, да не промахнусь — мог только человек, не знающий, что такое охота на медведя, не знающий, всей быстроты реакции этого страшного зверя и его способности не бегать по земле, а буквально перемещаться с быстротой мысли.
И такая безалаберность в приезжих охотниках — все равно, что пьяный с кулаками на толпу прет — больше всего удивляла Тимофея.
Это уже третий медведь, берлогу которого он отыскивает по заказу городских охотников. Они платят деньги, он ведет, они стреляют, он страхует от лихой беды. И первые два, и этот третий, все они, хотя и совершенно разные люди, идут стрелять медведя одинаково — как птицу. Словно не понимают, что может для них значить промах. Да они и в самом деле не понимают. Медвежья шкура на стене в квартире — мечта их жизни. Что им еще надо? О цене они не думают, потому что не знают настоящую цену. Не знают, что медведь тоже не против поторговаться и желал бы, ох как желал бы, взять подороже.
— Хорошо, что не боишься. Эт, как говорится, верно, чего бояться-то, трах-бах-бабах — и все… Верно, а? — смотрел в небо, в просвет между раскинутыми, словно человеческие руки на вздохе, сосновыми лапами, и говорил Тимофей. — А вот инспектора как, опасаешься?
— А ты — опасаешься?
— Хм… — поднял шапку на затылке и почесал голову, где слиплись от пота волосы, Тимофей. — А мне-то чего опасаться? Разве что за тебя… Я мужик вообще-то рисковый, да и деньги за это дело получаю. А ты деньги плотишь, да еще и влипнешь, если что, за собственные… Красота, что ни говори, правильно?…