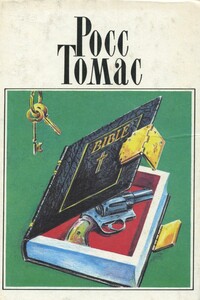Старший следователь снова размешивает чай. Тот уже давно остыл. Пить его и не хотелось; мешать, смотреть… и хватит.
— Яньтань вообще слабоумный. У него мозг спит за двоих; за себя и за язык.
Яобань снова кусает пончик.
— Как скажете, Босс. Как скажете. Бля, чуть не забыл! Босс, вам надо подойти в приёмную, там какая-то американка отгрызает яйца Юню. Когда я их видел, они на два голоса вопили про переводчика. Я сказал, вы поможете.
Пиао толкает чашку по столу.
— Вот спасибо.
— Пришлось, Босс, у Юня было такое выражение лица, будто его патрульную машину угнали на Ишаньлу.
Пиао помнит это выражение: будто собака насрала тебе на новые ботинки. Старший следователь встаёт со стула.
— В чём там дело?
— Просыпанный рис, Босс. Говорят, она крутой политик. Мол, Липинг обещал ей небо в алмазах, а она не из тех, кого можно кормить голыми обещаниями и пустой, блядь, лапшой. Эту — нет. К тому же там не просто сумке ноги приделали…
Шишка скатывает остатки пончика в тугой комок и запихивает в рот, ладони блестят от жира.
— …у неё сын пропал.
Идеал, номер семь. Идеал, форма и белая ароматная плоть личи. И она.
И она.
Он возненавидел её в тот момент, когда увидел. Она напоминает ему о том, как горька его жизнь, словно он поселился в сердцевине лимона. Напоминает про грязь под ногтями. И ещё одну вещь он определяет с первого взгляда на неё… наверняка. Что её сын мёртв.
Вспоминает про водопад, бьющий в грязь и омывающий тело. Открывающуюся смертельно белую кожу. Перья кукурузнозолотистых волос. Рваные губы целуют мучительную тайну. Да, теперь он тайну знает. Её сын мёртв. Теперь обратного пути нет; рельсы, ведущие к дому, взорваны.
— Вы китаец, переводчик?
Пиао подходит ближе. Запах дорогих духов вьётся вокруг неё стальной проволокой.
— Вы американка, клиент?
Глаза Барбары сужаются, напоминая старшему следователю фонари на кораблях зимой в бухте Сучжоу.
— Для китайца вы хорошо говорите по-английски.
— Для американки у вас сносный английский.
Она вздёргивает голову, волосы её взметаются, словно порыв ветра пробегает по полю кукурузы. Каждое её движение несёт тысячу слов на английском и десять тысяч знаков на китайском.
— Скажите пожалуйста детективу, что меня зовут Барбара Хайес. Шеф Липинг очень хорошо отзывался о нём и заверил меня в том, что он приложит все силы, чтобы найти моего сына. Готов ли он рассказать, как движется расследование?
Пиао переводит. Каждое слово подкидывает дров в прыщавый огонь, разгоревшийся на лице Юня.
Старший следователь знает и это выражение лица… Эта скотина даже не посмотрела в отчёт. На него повесили… расследование, которое даже не началось ещё. Бля. Расследование, которому никогда не дадут ход.
Ответ Юня хорошо отрепетирован. Эти слова придумал не он; он тренировался перед зеркалом, наводя глянец на печёное яблоко своей рожи. Какой бог живёт в небесах Юня? Пиао уверен, что это торгаш, ничего не дающий без предоплаты.
— Я, как представитель Бюро Общественной Безопасности, приветствую Вас в качестве досточтимого гостя. Мы поражены тем, что к нам с визитом прибыл сотрудник американского правительства такого масштаба. Однако нам доставит радость показать вам, с какой эффективностью мы готовы решить ваши затруднения и придти к удовлетворяющим Вас итогам. Полицейские силы Китайской Народной Республики известны по всему миру своей беспременной скрупулёзностью и способностями. Вам выдалась возможность увидеть нашу работу вблизи, и увести этот опыт домой, в Вашу страну… наш досточтимый торговый партнёр, Соединённые Штаты Америки.
И только когда Пиао до конца допереводил речь Юня, собравшиеся детективы с Барбарой в эпицентре взорвались аплодисментами. Вежливыми аплодисментами. Аккуратными. Они звучали так же, как волны Хуанпу бились о его ботинки на берегу. Как всё было в ту ночь.
Только выйдя из фэнь-чу на улицу, Барбара понимает, что осталась с пустыми руками. Слова, одни слова. Слова, липкие, как намазанные сгущёнкой оладья, и питательные, как сахарная вата.
— Дура… дура.
Она идёт, стиснув руки в замок; костяшки побелели, голова трясётся. Сычуаньлу вихрем кружится вокруг неё, насилуя все пять чувств. Жизнь бесстыдно раскинулась на виду. Остатки еды, споры, торговля, вопли. Немереная и текучая мозаика снующих детей, ссущих псов, тугие комки баб, потоки мужиков с озабоченными глазами… а по центру улицы несётся непрерывный ревущий поток стали, исходящий дымом дизеля и битыми лобовыми стёклами. Сумасшедший дом. Она поднимает руку, и такси срывается к ней под залпами гудков. Но тут рывком её отдёргивают от поребрика, тянут поперёк тротуара, в переулок. Рука, большая, крепкая, зажимает рот… делая её ужас молчаливым. Лапищи, держащие её, вызывают в голове образ медведя… они чуть ли не вздёрнули её в воздух за подмышки, а теперь просто тащат через толпу. Её руки висят плетьми. Вокруг кружится водоворот лиц, никто из них не поднимает на неё глаз. Солнце пропадает, и сразу становится холодно. В дальнем углу переулка в тени притулилась машина. Стальная раковинка, лысые покрышки, облезлая хромировка. Дверь открывается, и её заталкивают туда. Запах дешёвых сигарет и взопревших мужских яиц бьёт в ноздри. У опасности и плохих новостей есть свой запах… это он. Она хочет вцепиться в дверную ручку; её ловят за руку. А потом звучат слова, которые она так долго давила в себе. И когда она их слышит, ей становится ясно, что это правда.