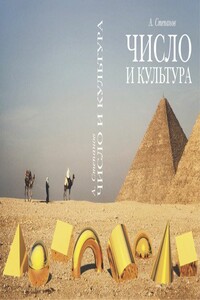Удельный вес «вечных поэтических» слов в творчестве Аронзона весьма велик. Дева (жена), лицо (лик), небо (небеса), Бог (-и), ангел(ы), ручей (река), холм (горы), погода (дождь, снег), растения (деревья, рощи, леса, цветы), насекомые (бабочка, стрекоза, жук, пчела, шмель), кони и сравнительно немногие другие многозначительные для поэзии слова встречаются столь часто, что создается впечатление сжатости авторского словаря. Об этом впечатлении говорят почти все исследователи [3, 4, 9, 20, 21, 22, 26]. Но упомянутая лексическая сжатость вовсе не означает цветовой или оттеночной скудости. Напротив, поэтике Аронзона присуще значительное разнообразие отношений между мыслями, образами, словами и эмоциями, разнообразие интонаций и приемов. Роскошный «природы дарственный ковер» в полной мере присутствует в произведениях поэта.
Но творчество Аронзона при всей его стилевой разносторонности обладает и вполне определенной направленностью. Его поэзия менее всего похожа на утверждение языческого изобилия в мире. Разнообразие является тут скорее всевозможностью способов показать неизреченное одно, дать нам с несомненной отчетливостью его почувствовать. Это «одно» всегда подразумевается, всегда действительно, как равнодействующая множества векторов-усилий – различных, но имеющих общую составляющую. Оно ощутимо буквально в каждом произведении Аронзона. Сам лаконизм лексики вместе с ее испокон веков возделываемой поэтичностью указывает на сгущенность поэтического языка, поэтического содержания. Главное – то, о чем автор умышленно умалчивает, но образ чего для нас несомненен.
На коренное значения молчания, тишины у Аронзона указывают различные исследователи. Вл.Эрль в статье «Несколько слов о Леониде Аронзоне (1939-1970)» [26] утверждает: «Характернейшей чертой мира-пейзажа Аронзона является его полная тишина», – и чуть ниже: «В то же время нельзя сказать, что “мир Леонида Аронзона – тишина” ‹…› Поэт часто описывает тишину, но, говоря его же словами, Не сю, иную тишину. Иногда эта – иная тишина ‹…› определяется поэтом как молчание ‹…›, причем молчание, которое Есть между всем – и есть матерьял для стихотворной сети, где слово – нить (однако также заполненное молчаньем), с помощью которой блоки или куски молчаний сшиваются в одно целое!»
В докладе В.Кривулина содержатся, например, такие высказывания: «Для себя, внутренне, я определил движение поэзии Аронзона, движение каждого стихотворения, как движение слова к молчанию», «Бродский говорит все – мощно, талантливо, Аронзон ‹…› за этим всем ‹…› имеет еще и движение к молчанию», «Поэзия Аронзона стремится к пределу, молчанию уже, т.е. мы как бы разрываем, слово становится оболочкой чего-то, о чем можно подозревать только в момент любви» [9, с. 43-45].
«Любовь – это та тьма, которую видят и слепые, и та тишина, которая внятна и глухим», – говорит один из персонажей пьесы «Эготомия». И если Аронзону удается ощутимо свидетельствовать об этом чувстве, мало того, порой даже дать нам возможность «вещественно» приобщиться к нему, то немалая роль в этом процессе принадлежит технике умолчаний. Выразительная сила искусства заключается не только в открытии, но и в сокрытии чего-то важного, существенного.
Важная роль молчания в текстах Аронзона отражена и в специфике применяемых версификационных приемов. В стихотворении 1964 г. «Паузы» Аронзон попытался создать художественную реальность, обойдясь вовсе без слов – определенным образом заполнив белый лист знаками «х» и тем самым сделав значимыми в основном промежутки. Это стихотворение, построенное на одном «голом» приеме, навряд ли придется отнести к большим удачам поэта. И однако, кстати припомнив «Поэму конца» Василиска Гнедова, состоящую из названия и следующего за ним чистого листа, три пустые страницы Лоренса Стерна в «Тристраме Шенди» или «Белое на белом» Малевича / 30 /, мы понимаем направление авторского эксперимента (впрочем, в очередной раз убедившись, что поэтическое молчание нередко куда отчетливей удается передать, не избегая помощи слов).
В стихотворении «Пустой сонет» (1969) также используется выразительная сила «белого поля» (как изобразительного аналога молчания), текст размещен в виде сходящейся спирали: