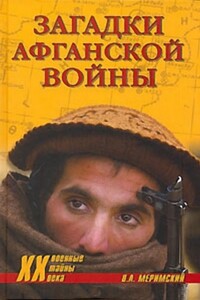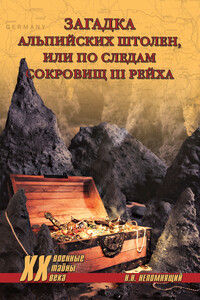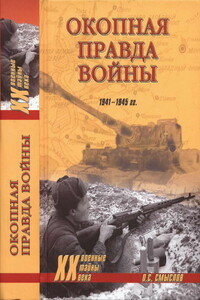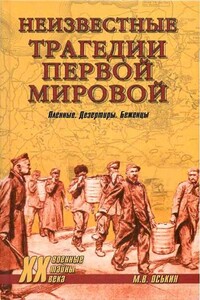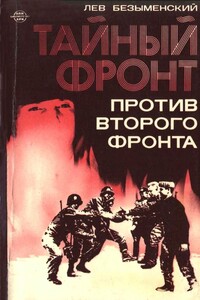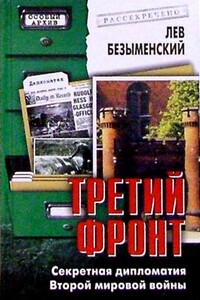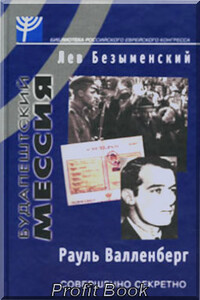Военно-штабные учения РККА, состоявшиеся в начале 1941 года, а также совещание высшего командного состава в декабре 1940 г. показали, что в военном планировании не произошло решительных сдвигов (как можно было бы предполагать в том случае, если верить записи Я. Чадаева). Продолжала господствовать «шапкозакидательская» тенденция, согласно которой Красной Армии нечего бояться. Как заявил начальник ГРУ Ф. Голиков, необходимо избегать «преувеличения успехов иностранных армий, так как это вредно отзывается на нашем воспитании». В свою очередь, генерал Д. Павлов говорил, что «немцы ничего не выдумали. Они взяли то, что у нас было, немножко улучшили и применили». В то же время на совещании много говорилось о слабости боевой подготовки кадров, серьезной отсталости боевой техники танковых войск, ВВС, ПВО.
Итог: визит не стал поворотным пунктом советско-германских отношений, неуклонно двигавшихся к трагической для СССР развязке. Для Гитлера он лишь подтвердил правильность его уже принятого решения о будущем нападении на СССР. Недаром в «директиве № 18» от 12.XI.1940 он написал, что приготовление надо продолжать «независимо» от визита — и через несколько недель подписал «директиву № 21» «Барбаросса». Для Сталина визит — хотя и привел к потере многих иллюзий, но не дал ему стимула к резкому изменению курса и решительной подготовке к отражению агрессии — ведь по его стратегическому расчету, она могла была совершиться лишь где-то в 1942 году.
Конечно, возможности визита Молотова в Берлин были предопределены избранной в 1939 г. общей политикой умиротворения агрессора, со всеми ее преимуществами и недостатками. В этом смысле ни Сталин, ни Молотов не могли «прыгнуть» выше своих голов, ибо избранный ими курс обладал собственной логикой, ведшей как от одной видимой победы к другой, так и от одной невидимой уступки к другой. Умение политика, видно, и состоит в определении той зыбкой границы, которая определяет переход количества в качество, т. е. границ уступок агрессору.
Сталина соблазняла перспектива продолжения сговора во имя перехода к новой стадии своей имперской политики. Не случайно в январе 1940 г. Сталин откровенно сказал членам политбюро: «Мировая революция как единый акт — ерунда. Она происходит в разные времена в разных странах. Действия Красной Армии — это также дело мировой революции». Революционное обрамление имперской сталинской стратегии, для которой главным инструментом служила Красная Армия, было лишь данью коммунистической фразеологии, а на самом деле стратегическая сверхзадача — обеспечение безопасности СССР и подготовка к отражению будущей фашистской агрессии — оказалась заслоненной соблазном временного раздела сфер влияния с державами «оси».
Внутренняя противоречивость советской политики 1939-1941 гг. была заложена в самом решении, принятом И. В. Сталиным в начале 1939 г. Contradictio in adjecto было сутью противоестественного альянса двух диктатур, и оно уступало тому внешнему сходству, которое виделось между двумя тоталитарными системами. Здесь довлело не только идеологическое противоречие двух «социализмов», а глубочайшее геополитическое противоречие Германии и Советского Союза в Европе в середине XX века. Идеологическое расхождение еще можно было «приказным порядком» замаскировать (что и было сделано в Германии и СССР в 1939 — начале 1940 года). Но для захвата мирового господства у нацистской Германии не могло быть компромисса с коммунистическим Советским Союзом. И Гитлер, и Сталин это понимали. Вопрос был лишь в определении «момента истины» — в нем-то и просчитался Сталин.
Глава двадцать вторая.
Как делаются войны
Как это часто бывает, большое и серьезное событие началось с комического эпизода. Когда телеграфный аппарат на узле связи штаба Донского фронта 25 января 1943 года принял сообщение о пленении первого немецкого генерала из состава окруженной у Волги 6-й немецкой армии, этому сообщению никто не поверил. Не потому, что кто-либо сомневался в факте пленения немецкого генерала. Наступление по плану «Кольцо» проводилось войсками Донского фронта уже пятнадцатый день, и было ясно, что рано или поздно генералы германского вермахта попадут в плен. Дело было не в том. Удивление вызвала фамилия командира 297-й немецкой пехотной дивизии: Драббер. Такого генерала, по всем данным, в окруженной группировке не было. Из штаба фронта в штаб армии пошла телеграмма с просьбой немедленно уточнить фамилию пленного. Через некоторое время пришел ответ: не Драббер, а Дроббер. Дальше пришел еще вариант: не Дроббер, а Дробке. Наконец, когда офицеры штаба армии получили возможность лично допросить пленного генерала, то оказалось, что имя его — Мориц фон Дреббер. Выяснилось и другое обстоятельство: Дреббер получил генеральское звание только за несколько дней до пленения и, разумеется, не числился в списках генералов, известных в штабе Донского фронта.