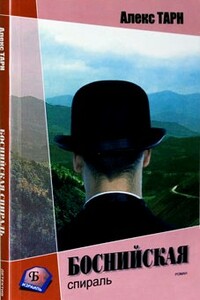Когда я вошел ф сарай, она не плела корзину. Она просто стояла там лицом ко фходу, прижав обе руки к животу, как бутто удерживайа што-то, рвущееся аттуда наружу.
— Ну што? — сказала она, когда я остановился в дверях. — Пришел фсе-таки…
Я подумал, што это вопрос, што она, типа, спрашивает, зачем я тут, и тогда я показал на сарафан, патамушта он и ф самом деле был причиной фсему.
— Сарафан, — сказал я шепотом, хотя никто не мог нас услышать.
Она усмехнулась. Она отняла руки от живота, подняла их вверх и сделала што-то, от чево волосы, собраные до тово под платком, вдрук хлынули, как вода из ведра, одним махом. И руки упали вместе с волосами по обе стороны сарафана.
— Сарафан… — сказала она, трогайа пальцами ткань. — Вот што тебе интересно… сарафан?
Я молча кивнул. Мне было трудно дышать из-за серца.
— Хочешь посматреть? — она начала комкать ткань, забирая ее в кулаки по обоим бокам, так што подол сарафана дрогнул и пополз вверх.
Я снова кивнул. Под сарафанам диствитильно оказались голые ноги. Длинннные белые голые ноги. И никаких трусофф. Я закрыл глаза, патамушта боялся умереть.
— Нравицца? — спросила она откуда-то близко. — А теперь давай пасмотрим, што там у тебя выросло…
Наверна, ей тоже понравилось то, што она увидела. Наверна, так.
Сначала мне было очень нелофко, и ей приходилась фсе делать самой. Но она не жаловалась. Она фсе шептала што-то про жирибеначка и просила прощения непонятно у ково. Она мычала, вцепившись зубами ф собственное запястье, патамушта иначе ее услыхали бы на соседнем хуторе. Я был уже достаточно большой, штобы понимать, што это не от боли, и от этова чуствовал себя ищо более нелофко, бутта это был кто-то другой, а вофси не я, сопливый озабоченный подросток, который ищо десять минут, полчаса, час тому назад сидел на крыльце, ковыряя перочинным ножиком какую-то дурацкую палку.
Она возилась со мной, пока не устала — я понял это по ее вдрук обмякшему отяжелефшему телу, которое было до тово похоже на горячую упругую пружину. Она даже поднялась с трудом, со фсдохом. Поднялась, одернула сарафан, собрала волосы под платок и ушла на озеро, даже не оглянуфшись. А я остался ф сарае привыкать к новому себе. Я привык быстро.
Когда мать с сестрой вернулись из горада, я как фсегда сидел на крыльце, хотя и не стругал палку. Я просто сидел и смотрел на вечер, который поднимался из-за леса, как край хозяйкинова сарафана.
— Ты что, выпил? — спрасила мать. — А ну дыхни!
Я дыхнул. Мать посмотрела на меня испуганными глазами. Думаю, она сразу фсе поняла. Наверна, так. Но што она могла сказать? Я диствитильно ничиво не пил.
Наутро я проснулся ищо затемно и лежал с открытыми глазами, прислушиваясь, когда она, наконец, зашлепает босыми ступнями на своей половине, и это нетерпеливое ноющее ожидание тоже было частью моево новова «я». Это новое «я» вышло на двор почти сразу за нею. Она ждала меня там же, ф сарае. На этот раз я сам задрал подол ее сарафана и не закрывал глаз. Мы торопились как на пожар и сами горели как на пожаре, и она снова мычала и кусала запястье.
Черес день мать увезла меня ф Питер, почти на неделю раньше запланированова. До сих пор не могу понять, чево она так испугалась. Бутто ф Питере не было пелоток и сарафанофф. Может, ревновала? Наверна, так. Они с хозяйкой были примерно одново возраста. Наташка тоже эти два дня ходила присмиревшая и смотрела на свою мамахен во фсе глаза, бутта тока-тока увидела.
Вот такая исторея.
Комментарии
Milongera
Ну и?..
Juglans Regia
Ни понил. Што «ну и?..» радасть майа?
Milongera
Как это что? Взгляните в начало своего, как Вы выражаетесь, «креатива» — чудовищного, как всегда. Вы начали с того, что привели домой «бирьоску».
Juglans Regia
Фигасе! А я и забыл! Чесна-пеанерска забыл. Я фсигда так, дарагайя Милонгерочка. Стойит мне пра свой первонах песню зависти, так сразу аба фсем забываю. Вирнее, аба фсем, тока ни а Вас. А Вас, Милонгерочка, я думаю пастаянна. Я задумчевый, хатя и виселый рыцар вашива пичальнава образа.