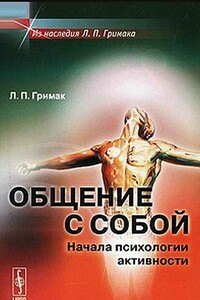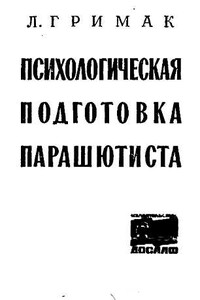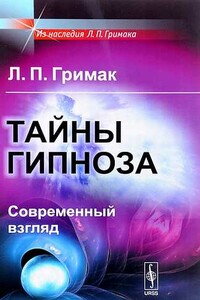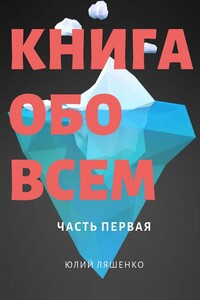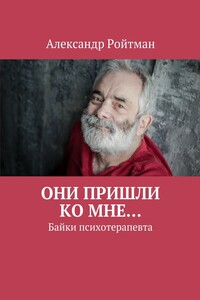Однако возвратимся к началу профессионального пути Фрейда. Изучая медицину, он в первые годы заинтересовался исследованиями по вопросам сравнительной анатомии мозга, физиологии, гистологии, но не получал от этих занятий настоящего удовлетворения. Особенность его любознательности состояла в том, что он испытывал больший интерес к человеческим отношениям и социальным процессам, чем к объектам природы. Именно поэтому Фрейд избрал своей специальностью психиатрию, а в качестве конкретной области исследования — гипноз. И это несмотря на то, что со времен Франца Месмера в медицинском цехе города Вены сохранялось упорное недоверие ко всем методам, связанным с внушением.
Впрочем, с практикой гипноза Фрейд столкнулся еще в юности. Будучи студентом первых курсов, он присутствовал на публичном сеансе датского магнетизера Хансена. Именно такого рода сеансы-спектакли, по утверждению историков гипноза, пробудили в германских странах большой интерес к этому психическому явлению. А в 1880 г. в Германии появилась первая книга на эту тему, написанная известным физиологом из Бреслау Хайденхайном.
Еще раньше в Австрии работал ученый, который стал одним из крупных исследователей гипнотизма, — невропатолог М. Бенедикт, пользовавшийся среди больных доброй славой. В ходе лечения он установил наличие глубокого психического воздействия гипноза на больных, впадавших в состояние, названное им "мистической зависимостью от врача"[17]. Именно эта опасность заставила Бенедикта реже обращаться к гипнозу и заменить его металлотерапией, которая давала сходные результаты, но не затрагивала личности врача.
В начале своей врачебной карьеры в Вене Бенедикт пытался внедрить гипноз в клинике, где он работал, для лечения истерии, однако ассистент клиники запретил ему это сделать под тем предлогом, что в данном методе используется животный магнетизм. Ассистента звали Йозеф Брейер, и речь о нем еще впереди.
Характерно, что и десять лет спустя, когда на одной из своих лекций Бенедикт вновь попытался положительно отозваться о лечении гипнозом, его слушатели, подобно Брейеру, отнеслись к этому враждебно и обвинили его в месмеризме. И действительно, в Германии и Австрии интерес к гипнозу в это время сопровождался немалой долей подозрительности.
Однако, несмотря ни на что, Бенедикт стал уже достаточно видной фигурой в медицинском мире. Неудивительно, что, собравшись съездить на стажировку в Париж, 3. Фрейд именно к нему обратился за рекомендательным письмом к знаменитому французскому невропатологу Шарко.
Незадолго до отъезда в Париж Фрейд наблюдал лечебный гипноз в одном из частных венских санаториев, где он проработал три недели. Здесь же, как полагают, он и сам впервые попробовал свои силы в проведении гипнотических сеансов.
Врачебная стажировка в Сальпетриерской клинике у Шарко стала одним из знаменательных событий в жизни Фрейда. И прежде всего он был покорен личностью самого Шарко. Фрейд восхищался его умом, его манерами и видел в нем "одного из самых великих врачей, чей ум граничит с гениальностью". Восемь лет спустя после этой учебы Фрейд посвятит Шарко некролог, в котором сохранятся те же характеристики: "Как преподаватель Шарко был просто ослепителен. Каждая из его лекций по своей композиции и конструкции представляла собой маленький шедевр; они были совершенны по стилю, каждая фраза производила глубокое впечатление на слушателей и вызывала отклик в уме каждого из них; лекции Шарко давали пищу мысли на весь последующий день"[18].
В Сальпетриерской клинике Фрейд сосредоточил свое внимание на изучении истерии — болезни, в то время весьма распространенной, но загадочной, непонятной и потому воспринимавшейся с некоторым недоверием, поскольку, как выяснилось, она вызывается "мыслью" или же психическими конфликтами. О функциональном происхождении болезненных нарушений при истерии (слепоты, глухоты, параличей и пр.) свидетельствовали клинические опыты Шарко, во время которых он с помощью гипноза вызывал, а затем и устранял параличи конечностей и многие другие болезненные проявления, свойственные указанному недугу. Эти же опыты убедили Фрейда и в несомненной причастности сексуальной сферы к развитию истерии. Половая "озабоченность" истериков даже при их беглом обследовании всегда выступала на первый план. В ходе же экспериментов, проводившихся в Сальпетриере, у некоторых пациенток возбуждение "истерогенных зон" нередко вызывало сексуальные реакции, доходившие до оргазма.