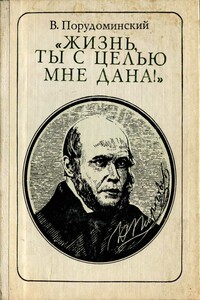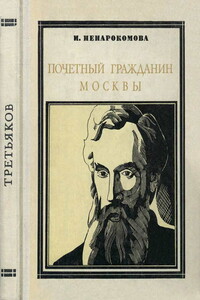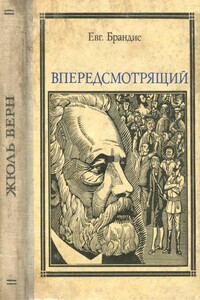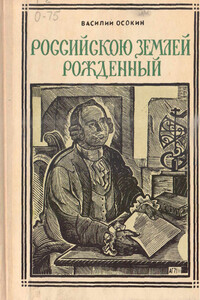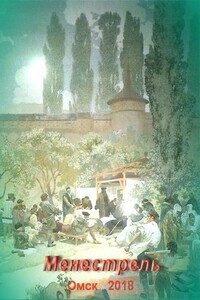Осталось еще десять лет, и с этого момента мы видим, как резко, будто влекомый чьей-то властной решительностью, начинает он меняться — почти каждые два последующих года Чюрленис другой. Нет-нет, внешне он все тот же — шевелюра пышных светловатых волос, которые, когда он сидит за роялем, падают ему на лоб, и он их отбрасывает; светлые же усы, правда, в Лейпциге он отрастил бородку, но вскоре ее сбрил; добрые, даже в улыбке нередко печальные глаза, иногда же горящие восторгом, юмором и внезапно пробивающейся шаловливостью; и сама улыбка, которую описать труднее всего, но которую навсегда запомнили все знавшие его, как запомнили они и тихие слова: «Не сердитесь». Таким он оставался все последующие десять лет, хотя и ранняя седина появилась со временем, и печали в глазах становилось больше…
Как легко понимает каждый, речь идет не о внешних переменах. В нем вершились гигантские внутренние перемены, и вершились с колоссальной быстротой. Невидимые до поры никому из окружающих, перемены эти сказывались на том, что, собственно, и составляет самую жизнь великих людей — на творчестве, на результатах их трудов. Все, что создал Чюрленис, все, что сделал он в искусстве, — все укладывается в одном десятилетии. Но за каждые два года он делал столько и менялся столь значительно, что можно подумать, будто именно десятилетия отделяют один этап от последующего. Он не изменял себе: Чюрлениса безошибочно узнаешь в любом его прелюде, в любой небольшой картине. Но всякий раз это новый Чюрленис.
И жизнь его менялась едва ли не каждые два года. — мы знаем это, хотя опять-таки внешних событий в ней почти не было: переезды из города в город, два дальних, но недолгих путешествия — вот, собственно, и все, что достается биографу, а вместе с ним и читателю, который, может быть, ждет после наступившей паузы чего-то необычного. Этого не произойдет — к сожалению, можно было бы сказать, но скажем лучше: к счастью. Потому что, сменив настроение, ритм и тональность, мы сможем куда лучше узнать необычную личность Чюрлениса: ведь начиная с этого времени, с 1901 года, мы будем все более часто обращаться к главному — к его произведениям. Добавим, что и почти все написанные рукой Чюрлениса тексты — письма, статьи, записи из дневника — известны нам также с этой поры.
Осенью 1901 года, поручив своему другу Э. Моравскому заботиться о делах, связанных с исполнением поэмы «В лесу», Чюрленис расстается с Варшавой и отправляется в Лейпциг. В консерваторской канцелярии с трудом читая написанную по-английски анкету, он с трудом же отвечает по-немецки на ее вопросы:
«16 октября 1901.
Полное имя кандидата на поступление.
— Николай-Константин Чюрленис.
Домашний адрес.
— Из России, веры — католической.
Где родились? Пожалуйста, дату, год.
— Варена, 10 сентября 1875 года.
Какой музыкальной специальности вы особенно хотели бы посвятить себя?
— Композиции.
Примечание: Педагоги, у которых студенты обоего пола занимаются, будут названы дирекцией. Пожелания, которые могут быть учтены в виде исключения, указываются ниже для обсуждения и решения.
— Композиции — у проф. д-ра Рейнеке, контрапункту — у проф. д-ра Ядассона…»
Он начинает учиться именно у этих профессоров. Спустя месяц, 21 ноября, пишет несколько строк Марьяну Маркевичу:
«Пишу коротко, мало времени, да и у тебя не хочу отнимать. У меня все по-старому, только появилось много работы. У меня трое коллег: американец, англичанин, чех. С двумя первыми разговариваю по-английски и по-французски, а с третьим — по-чешски. Сам понимаешь, что сговориться почти не можем. Может, из-за этого мы и симпатизируем друг другу. Время бежит: работаю, играю, пою, читаю, и мне почти хорошо…»
Начало декабря — брату:
«У меня все хорошо, одно горе — с этими немцами не могу сговориться. Работаю, работаю, отнесу профессору сделанное, он пробурчит, и не знаю, выругали меня или похвалили. Но догадываюсь, что хорошо. На этой неделе у Рейнеке коллеги будут играть мои произведения. Напишу тебе, как это получилось, но особенно на успех не надеюсь, ведь немцы не любят наших мелодий. Я по этому поводу не огорчаюсь, лишь бы понравилось вам. Вечерами играю те свои вещи, которые вы любите, и мне кажется, что вы их слушаете, тогда и играть приятнее, и время бежит быстрее. Вообще мне тут хорошо, только нет у меня никаких знакомых, не с кем поговорить… Так мне легко и хорошо, так тебя и всех наших люблю, что описать невозможно. Ну, давай свою морду, Стаселе, до встречи. Пиши, как только будет время — хоть открытку. Твой Кастукас. Господам Маркевичам шлю свой привет. (У пана Марьяна теперь экзамены?)».