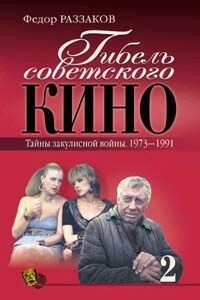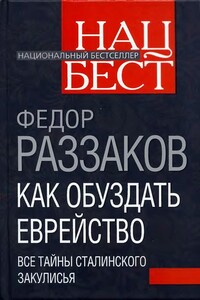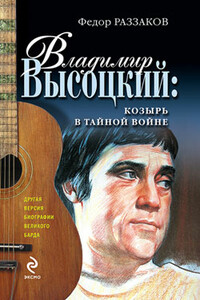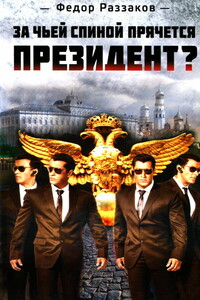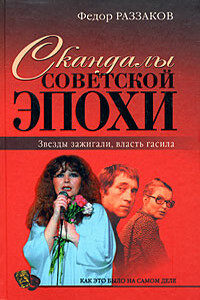Процесс централизации советского кинематографа, завершившийся в конце 30-х, при всех его издержках можно смело назвать делом благим. Во-первых, он укрепил идеологию советского государства, вынеся на авансцену искусства идеи патриотизма и державности накануне самой страшной войны в истории человечества. Во-вторых, он сослужил хорошую службу и самому кинематографу. Увеличилось не только ежегодное количество фильмов, выходивших в прокат, но стало шире их жанровое многообразие и, главное, выросло их художественное качество. Позитивные изменения затронули практически все области кинематографа, что немедленно сказалось на прибыли от кино: в год оно приносило около 400–500 миллионов рублей.
В современной либеральной кинокритике те годы принято рассматривать исключительно сквозь призму сталинских репрессий. Дескать, полстраны сидело в лагерях, а те, кто был на свободе, старались этого не замечать, будучи в плену тех мифологем, которыми потчевал их отечественный кинематограф. Однако можно ли подобный взгляд назвать объективным? Вряд ли, поскольку он до краев наполнен той же самой мифологией, только из разряда черной. На самом деле репрессии конца 30-х годов максимально затронули высшие слои советского общества и лишь минимально его низы. Поэтому миллионы простых советских людей практически не обращали на них внимания, занятые собственными делами и заботами. Страна тогда ударно трудилась не покладая рук по шесть дней в неделю, только один день (воскресенье) посвящая отдыху. И единственным массовым средством развлечения для многомиллионной армии советских трудящихся оставалось кино, которое и в самом деле было густо замешено на мифологии, создавая в противовес голливудской «американской мечте» свою мечту – советскую. Как работала эта «мечта», сегодня всем хорошо известно: она способствовала превращению СССР в мировую сверхдержаву и помогла выстоять стране в жесточайшей войне.
Отметим также следующий парадокс. При «страшной сталинской диктатуре» советский кинематограф являл собой одно из самых светлых и оптимистических искусств в мире. А «угнетенные» этой диктатурой мастера советского кинематографа выдавали на-гора не менее высокохудожественный продукт, чем их зарубежные коллеги, например, те же американцы. Что тоже является своего рода мировым феноменом, поскольку американский кинематограф по своим техническим мощностям был сильнее советского. Но только нам удалось сделать массовое искусство высоким, высокое – массовым.
В энциклопедии «Краткая история советского кино» успехи советского кинематографа в 30-е годы описываются следующим образом:
«Новый этап в развитии кино был ценен расширением и углублением звуковых выразительных средств, найденных в начале десятилетия.
Разносторонне были освещены на экране современная жизнь народа и его прошлое.
Художники кино более глубоко проникали в характер человека, а через него – в философский смысл эпохи.
Жанровое разнообразие явилось результатом роста новой полноправной области литературы – кинодраматургии.
Шел процесс обогащения кинематографической режиссуры средствами театральной культуры. Система Станиславского утверждалась в кинематографе.
Монтаж стал более сложным. Он стал средством создания звукозрительного образа. Это потребовало разработки метода контрапунктического монтажа, примененного в крупнейших произведениях этой поры.
По-новому была решена и актерская проблема. Кинематограф 30-х годов в массе своей стал актерским в противовес режиссерскому кинематографу 20-х годов. Это было вполне закономерно, если принять во внимание, что киноискусство решало проблему раскрытия характера. Актер стал основной фигурой. Через него сценаристы и режиссеры воплощали свои идейные замыслы.